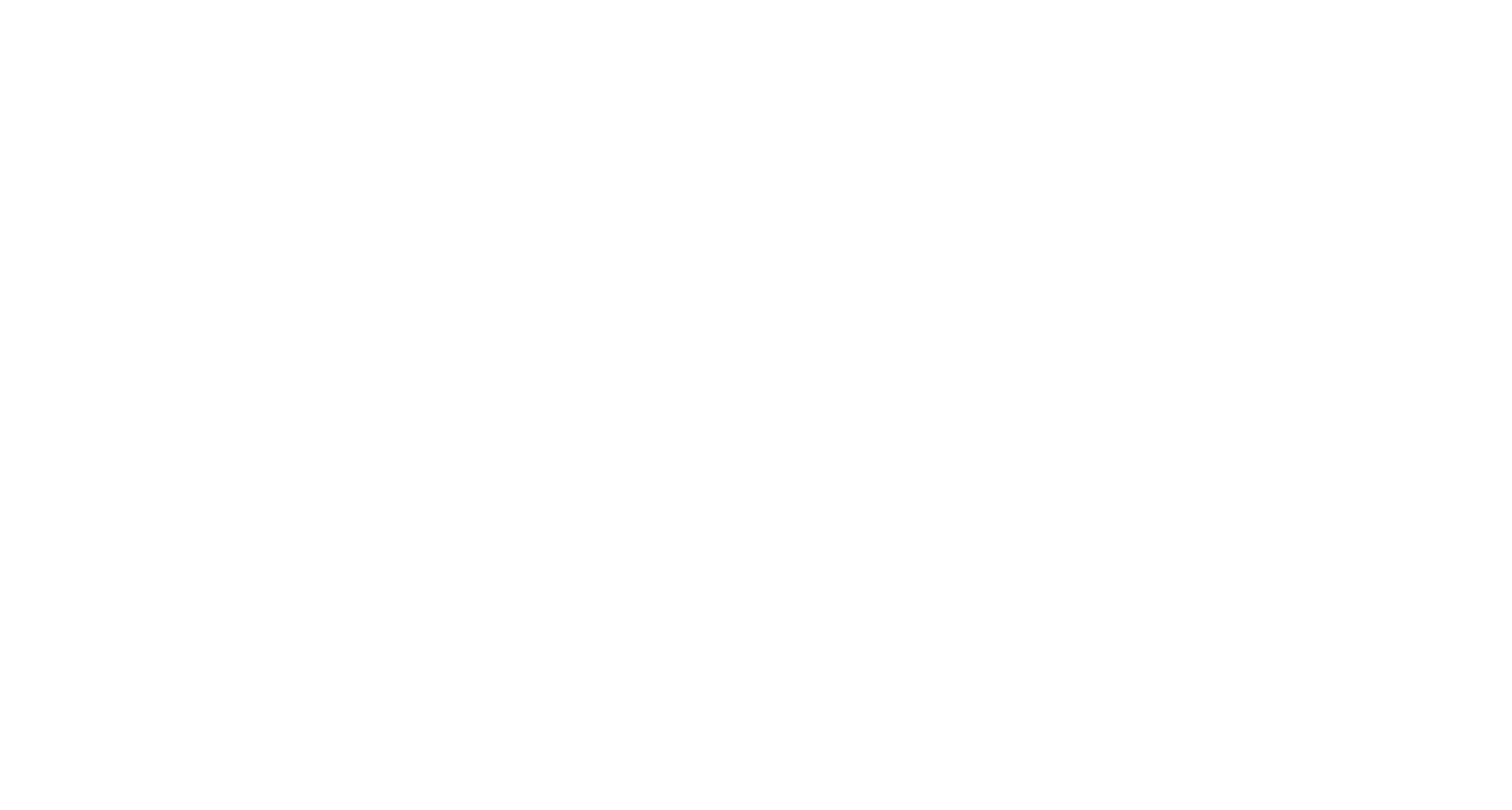Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Кабинет технических редкостей
I
«Обычно это начинается с какой-то мелочи, совершенно безобидной, лёгкой одержимости. Вы очарованы увиденным, что-то бросается в глаза: особый узор на скатерти, форма раковин улиток, извивы усиков растения, форма на керамической чашке, движение жидкости в мисо-супе во время помешивания. [...] Понемногу маленькая одержимость становится большой одержимостью, и вскоре оказывается, что всё сделано из [...] — от микроскопических клеток и гранул песка до человеческих поселений вокруг городов, гигантских тучевых образований во время урагана, галактик, даже самих мыслей»[1]
Как и в проведённом Юджином Такером анализе Uzumaki Дзюндзи Ито, мы можем отметить в открытии и использовании ЭПС несколько уровней одержимости полостями. На первом полостные структуры представлены в том виде, в каком они открываются Виктору Гребенникову: они воздействуют на пытливого наблюдателя и совершенно непримечательны для остальных. На втором уровне начинается взаимодействие ЭПС с миром помимо Гребенникова так, будто не люди пользуются ЭПС, а ЭПС людьми. Гребенников лишь обнаруживает существование некоего эффекта, тогда как насекомые непосредственно ориентируются им при полёте и постройке гнезд, а растения и даже человеческие трубчатые кости оказываются «интенсивными излучателями ЭПС».
Полость. Имиджборды неразрывно связаны с эпохой Веб 2.0. Кто-то считает, что они стали местом, из которого проросла и развилась новая система сетевых взаимодействий. Другие полагают, что имиджборды — это первое и основное детище Веб 2.0., но не наоборот. Появление имиджбордов совпадает с возникновением и бумом так называемых крипипаст (сам термин creepy stories получил распространение на 4chan в 2006 году) — коротких хоррор-историй, основанных на городском и сетевом фольклоре. Одна из наиболее странных и по сей день навевающих жуть историй появилась в 2012 году. Она заметно отличается от прочих, часто наивных крипипаст. В ней описывается, как одному из пользователей на электронную почту пришло письмо со ссылкой и незамысловатым сообщением: Hi there found this site is very nice thought u might like pass it on, for the good of mankind. На открывающемся по ссылке сайте не было бы ничего примечательного, если бы не обнаружилось, что каждое слово на странице являлось отдельной гиперссылкой, выводящей на зловещие видеозаписи разной степени девиантности. Сайт, как и одноимённая крипипаста, назывался Normal Porn for Normal People. Безотносительно к наполнению сайта само его название скрывает ускользающую семантическую аберрацию, порождаемую зеркальным удвоением нормальности: слова могут быть заменены на противоположные по смыслу, но при этом смысл названия в целом останется тем же: ненормальное порно для нормальных людей, нормальное порно для ненормальных людей, ненормальное порно для ненормальных не-людей и т. д. Сохраняя эту парадоксальную семантическую зеркальность, здесь и дальше мы будем говорить о нормальных музеях для нормальных людей.
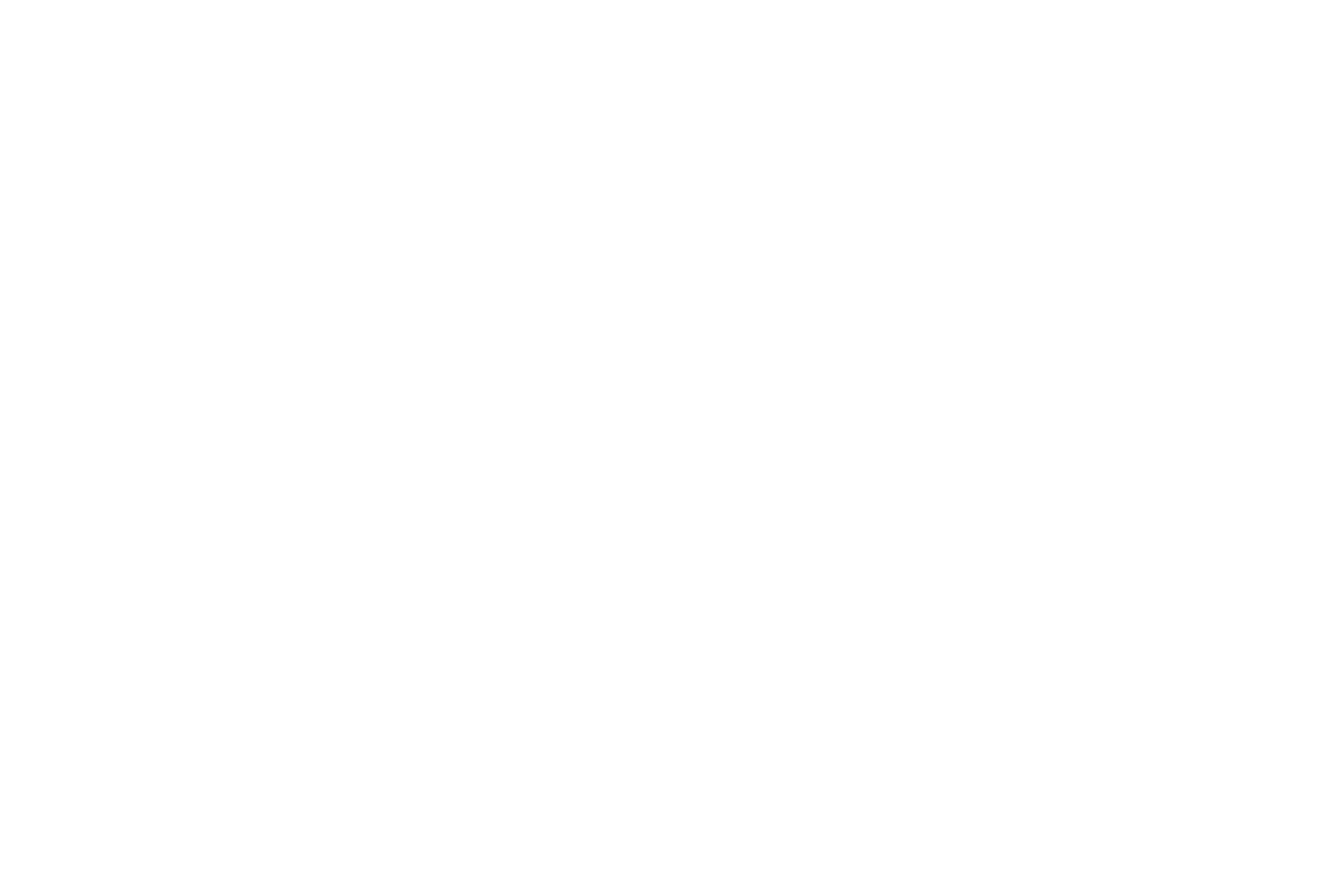
Музей Гребенникова сопротивляется любой классификации, ни одна из характеристик какого-либо современного музея не подходит к нему, не исчерпывает всех его композитов. Пытаясь дать ему позитивное описание, мы сперва вынуждены обратиться к апофатике: это не музей искусства Гребенникова, не музей естественных наук, не специализированный музей и т. д. Невозможность точной классификации связана с рядом неудобных, мерцающих объектов экспозиции, не поддающихся однозначному определению, — объектов, чьё происхождение остается неясным. Мы не можем категоризировать их, одновременно не обедняя их парадоксальность. Эти объекты можно перечислить: сотовый болеутолитель, регистратор волн материи и телекинеза, концентратор волн материи дальнего действия, гравитоплан, биолокационные рамки, штормгласс и другие (не получившие названия). К каждому из этих объектов примыкает своего рода двойник, мутантное отражение, находящееся за спиной отражаемого, или убегающее от него вглубь отраженного. Речь идёт не об экстенсивной репрезентации, не об «отражающих» зеркалах, но скорее об «интенсивны[х] кристалл[ах], инструмент[ах] приумножения чистого опыта свечения, мерцающи[х] фрагмент[ах]»[5]. Эти странные объекты бесконечно расщепляются: они технические и одновременно не-технические, так как в соответствии с известными законами природы не должны работать, но тем не менее работают; природные и одновременно не-природные — находясь в позиции современного зрителя, мы понимаем, что производимым этими объектами эффектам в мире ничто не соответствует, однако есть ряд научных исследований, которые подтверждают реальность этих эффектов[6]; искусственные, но скорее нет — Гребенников постоянно настаивает, что произвел их не он, а окружающая среда. Эти объекты в конце концов сбивают с толку не посетителя музея, а другие экспонаты, расположенные (и возникшие) по соседству: находясь рядом с ними, другие объекты музея также расщепляются, приобретают тех же смутных, мерцающих двойников.
На момент открытия музея эти объекты не были представлены в экспозиции, их просто не существовало. Но не может ли быть так, что ординарные объекты и неординарные насекомые скрывали свою мерцающую изнанку и заклинали будущую встречу? Возможно, создав место, разметив и заняв пространство, насытив его странными отражениями и опытом, простые (художественные или естественные) вещи сами выразились в артефактах неизвестного и неопределяемого происхождения? Вероятно, все, что нужно было этим объектам для функционирования, — музей и Гребенников, который предоставит им в этом музее возможность существовать. Мы можем предположить, что вся жизнь Гребенникова была линией, которая бесконечно раздваивалась в поисках этого пространства, только после появления которого и могли найти своё место эти неопознанные технические объекты. Отзвуки этого умножения мы можем обнаружить в сáмом детстве Виктора Степановича:
Мотив нетронутой природы про(и под-)рывается жёстокой реальностью своей изнанки: в 1947 году Гребенникова судят за подделку двух хлебных талонов. Он собирался продать хлеб для того, чтобы купить билет в Ашхабад, куда был приглашён на работу в Астрофизическую лабораторию. В суде прокурор «повесил» на Гребенникова весь перерасход в городе (Миасс, Челябинская область), за что он был осуждён по статье 58 УК РСФСР: групповое хищение государственной собственности в особо крупных размерах. «Прокурор сначала потребовал меня расстрелять, а затем — заключить в лагеря на 25 лет, я понял: мне не жить. Суд длился минут 10, от силы 15. В последнем слове я вымолвил: мне мол только что исполнилось 20 лет, — несимметрично у вас получается... Горькая шутка помогла: приговорили к 20 годам»[9]. Гребенникова амнистировали в 1953 сразу после смерти Сталина, но эти 6 лет лагерей на Урале отразились в собственном невозможном пространстве, пространстве ни с чем не соразмерного насилия, где ничто не испытывает заботы о себе, забота ничем не производится и ни на чём не удерживается:
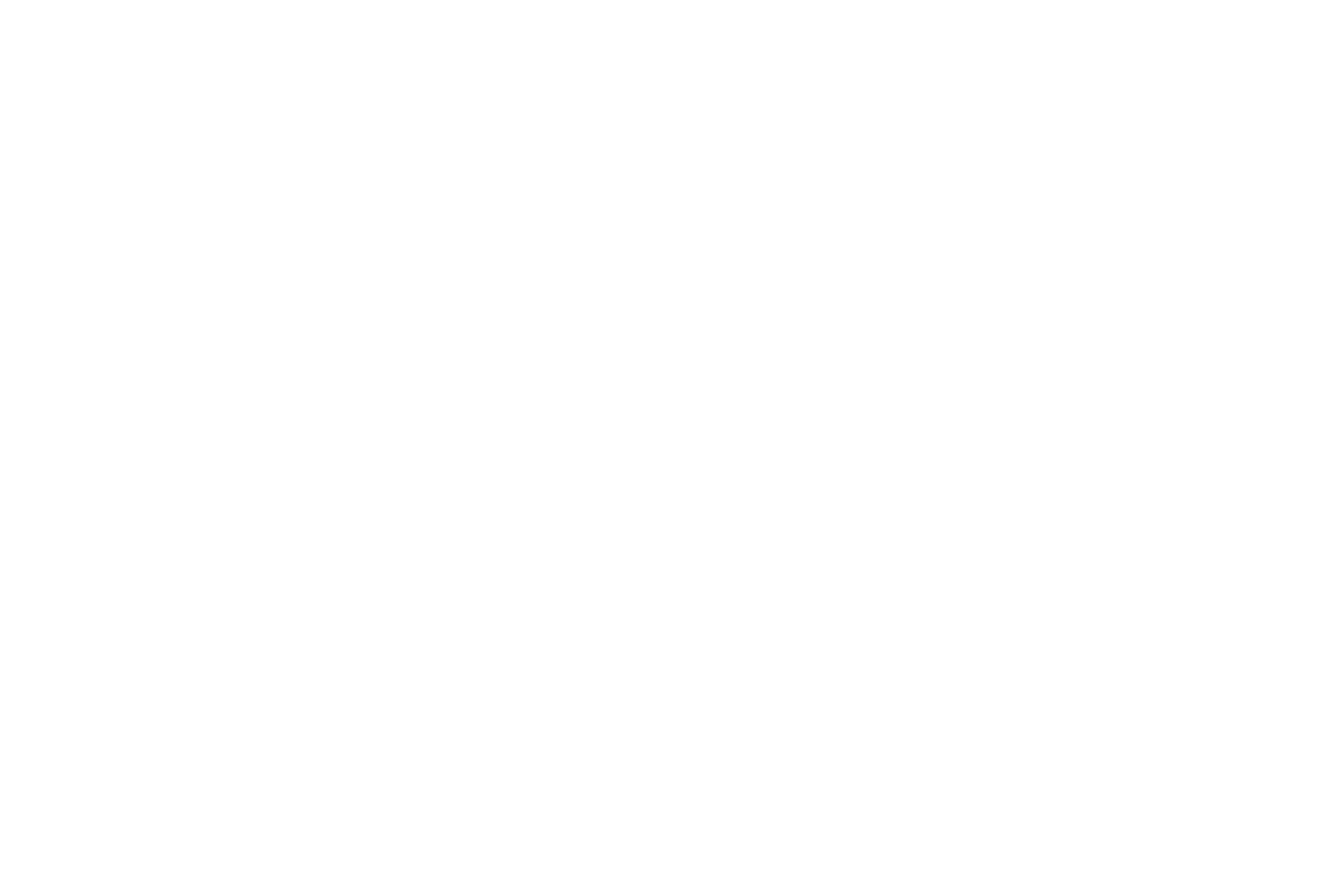
1975 год, Ленинград — персональная выставка работ на седьмом съезде энтомологов.
1975 год, Москва — персональная выставка на восьмом Международном конгрессе по защите растений.
«В зоне ЭПС (осиное гнездо, две ладони) начинает врать микрокалькулятор "Электроника БЗ-18", в среднем в одной операции из 20-30, весьма нерегулярно и беспорядочно, но иной раз так, что 2×2=11, 8=0, 10¹=∞ или какой дурацкой цифре с минусом; четырежды его заедало намертво на нуле, и я считал, что добил машинку, но минуты через три, как снимал поле, потихоньку, не сразу, с враньём в начале, приходила в себя, и в контролях работает безукоризненно хоть сотни раз. Но я присём гнусно передозируюсь и пока больше повторять не в силах. А Вам — пища для ума и поисков средств приборной констатации ЭПС»[14]
- Музей Гребенникова — «Мир». Объекты экспозиции не являются собранием работ и увлечений художника, они не самодостаточны, поскольку каждый из них является отражением некой реальности, Мира, с которого эти объекты списаны, из которого они пришли. За этими объектами стоит некая природа со своими законами (которые позволяют собранным в экспозиции техническим объектам работать) и самостоятельная экология. Музей лишь вкладывает эту природу в одно пространство, образуя её складку или полость, не претендуя на опись всего сущего в этом Мире, но демонстрируя его выразительные черты.
- Музей Гребенникова — «Мой». Работы в музее подписаны конкретным именем, мы имеем дело не с общим и разделяемым миром, но именно с Миром Гребенникова. Его Мир — это мир, который проходит через него, через его точку зрения на эту природу, выражаясь в ней и через неё. Этот Мир не представлен ни в каком другом виде, кроме как через точку зрения, перспективу самого Гребенникова, который вместе с тем удостоверяет его реальность. В перспективе Гребенникова, этот Мир нуждается в заботе, но вместе с тем хранит тайны, скрываясь от посторонних глаз.
- «Мой Мир» Гребенникова не соответствует нашему миру. Если перед нами действительно складка некой природы, барочная лейбницианская монада, включающая в себя весь видимый мир, мы должны заключить, что этот мир не совозможен нашему. Мы можем распознавать знакомые выразительные черты до тех пор, пока не оказываемся перед гравитопланом, заражающим своим упорным наличием все объекты поблизости. Речь не идет о том, что именно так наш мир — один на всех — видится Гребенникову. Скорее, он настаивает на неразличимости природы и тех средств, которыми он её выражает, на том, что его выразительные средства и есть средства выражения природы, которыми являются и антигравитационные надкрылья жука. Допуская одно, мы не можем избавиться от другого, природа либо такова, как она конкретизируется через Гребенникова, либо мы имеем как минимум две природы.
Принимая эти обобщения, мы вынуждены признать, что музею Гребенникова скорее ничто не соответствует. Однако, если ничто не соответствует ему сейчас, это не означает, что ничто не соответствовало в прошлом. Выше мы говорили о сопротивлении музея Гребенникова классификации, но эти трудности описания, характерные для музейной постспециализации, говорят лишь о том, на что был разбит некий изначальный музей, первое пространство экспозиции, во что оно превратилось, будучи выпаренным и вычищенным. «Первое» не в смысле предшествования (хотя и это тоже), как если бы это предшествующее было внешним (и в конце концов трансцендентным) по отношению к актуальным формам экспозиции, но в смысле тайного присутствия идеи Первого музея в каждом существующем выставочном пространстве.
Для прояснения того, что собой представляет музей Гребенникова, мы должны вернуться к выставочному месту, в котором естественное и искусственное, художественное и научное (лаборатория — это тоже пространство экспозиции), человеческое и не-человеческое ещё не разделялись, но, скорее, переплетались. Как мы знаем, всем существующим формам экспозиции предшествовали коллекционные кабинеты редкостей: Wunderkammer или Kunstkammer[15]. Если опустить некоторые оговорки (вроде той, что кунсткамеры есть до сих пор — например, в Санкт-Петербурге), само явление, которое возникло на перепутье позднего Средневековья и раннего Нового времени, исторически занимает буквально сто лет: начиная с середины XVI века и чуть дальше середины XVII века (уже к XVIII столетию большая часть кунсткамер переквалифицировалась в «кабинеты естественной истории», если не по названию, то по смыслу). Несмотря на ограниченный срок своего существования, устройство и смысл кунсткамеры отпечатались не только на формах экспозиции, но и на всей классической мысли. Однако для нас кунсткамера имеет значение не по историческим или культурологическим причинам, а потому, что её устройство позволяет прояснить собранные выше позитивные обобщения о музее Гребенникова, так как функционирование кабинета редкостей связано с теми же линиями генерализации. Кроме того, сущность кунсткамеры даёт возможность определить условия, в которых могут экспонироваться и, что более важно, функционировать объекты, вызывающие удивление в музее Гребенникова.
Одним из старейших трактатов об устройстве Wunderkammer является работа «Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi» (1565) Сэмуэля Киччеберга, советника герцога Баварского, чью кунсткамеру он помогал собирать. В этом руководстве содержалась не только информация по организации кабинетов, но и первая классификация объектов, поиском и собиранием которых в дальнейшем занимались средневековые коллекционеры. Коллекции кунсткамер собирались из artificialia (предметов, сделанных человеком), naturalia (объектов естественного происхождения, растений, животных и других природных предметов), scientifica (научных инструментов), exotica (предметов из дальних стран) и mirabilia (общее определение для объектов, не укладывающихся в предыдущие четыре категории). С некоторыми оговорками можно сказать, что само это разделение не имело определяющего значения (эту классификацию можно, как это делали впоследствии сами коллекционеры, сократить до натуралий и артифициалий), поскольку конечным результатом сборки экспонатов оказывалось то, что зритель, не знакомый с каталогом кабинета, не мог самостоятельно это разделение воспроизвести: нагромождение объектов в кабинете стирало различия между ними так, что они начинали переливаться и перетекать друг в друга, вводя в замешательство и восторг. Однако, как отмечает Джорджо Агамбен, «для ментальности средневекового мудреца кунсткамера представляет собой что-то вроде микрокосма, в своей беспорядочной гармонии воспроизводящего макрокосм животных, растений и минералов. Поэтому отдельные предметы обретают смысл только в комбинации с другими — в стенах комнаты, внутри которой мудрец мог в любой момент охватить пределы универсума»[16].
Основной пафос и смысл кунсткамеры — в том, что это не просто коллекция редкостей мира природы и искусства, но тотализация природы, универсума, осуществляемая за счёт создания исчерпывающего микрокосмоса, наиболее соответствующего макрокосмосу. Это возможно, поскольку каждый объект мира, согласно средневековому положению о подобиях (вылившемуся впоследствии в барокко), представляет собой «бесконечно пористую, губчатую или полостную текстуру без пустот; в каждой полости находится следующая полость: в каждом теле, каким бы малым оно ни было, содержится некий мир, являющийся таковым постольку, поскольку он продырявлен нерегулярными переходами»[17]. Несмотря на то, что коллекции кунсткамер исключали 99,9% обычных и ординарных объектов мира, его «репрезентативность», достигаемая относительно небольшим количеством объектов, представленных в кабинете, осуществлялась в силу того, что эти объекты демонстрировали искусство (природное или человеческое) «на пике своей интенсивности или творческого потенциала»[18]. Все объекты мира отражаются друг в друге, «пригнанностъ, соперничество, аналогия и симпатия говорят нам о том, как мир должен замыкаться на самом себе, удваиваться, отражаться или сцепляться с самим собой для того, чтобы вещи могли походить друг на друга»[19], однако вещи разомкнуты, между ними распределена система меток и примет, сообщающих нечто об их взаимодействии, поэтому для кабинета редкостей собирались объекты с наиболее выразительными чертами, с таким обилием сходства, которое явно бы указывало на исключительный порядок действующих в них и между ними симпатий. Самым важным для нас является то, что это загибание природы, это сложение универсума в одну складку приводит к обнаружению в ней того, чего в природе как будто быть не должно: чуда.
Собиратель редкостей руководствовался тем, что историки Лоррейн Дастон и Кэтрин Парк называют «страстью к удивлению»[20] (в противовес познавательному любопытству, сводящемуся к расколдовыванию того, что удивление вызывает: именно этот патологический аспект кунсткамер особенно критиковался Бэконом, а также Декартом) — пафосом «в его наилучшем значении», но вместе с тем и одержимостью. Зарегистрировать то, что вызывает удивление, значит отметить нарушение границ, ниспровержение классификации. Если естественный порядок, унаследованный нами от науки конца XVII и XVIII веков, основан на единых, нерушимых законах природы, одинаковых всегда и везде, то средневековая мысль противопоставляла единообразным законам порядок обычаев: вместо общеразделяемого, единого порядка — множество локальных проявлений удивительного, характерных для какой-либо конкретной территории. «Чудеса, как правило, располагались на периферии, а не в центре известного мира, и они составляли особую онтологическую категорию — внеестественное (preternatural), находящееся между мирским и чудотворным»[21]. Лучше всего природу выражают крайности, то, что находится на периферии, а то, что находится на периферии, чудесно (что также подразумевает определенную геофилософию: периферия не занимает какой-то определенной географической зоны, но перемещается сообразно представлению о ней, мигрируя с окраин мира на окраины европейских городов). Именно чудесное характеризует природу и универсум, именно оно высказывает истину о природе. Так понятая истина — это истина о нарушенной классификации:
Ещё одна новость. Практикующий у нас студент обрезал две головы у шмелей-кукушек (похожие на них насекомые, паразитирующие в их семьях). Через 20 минут головы были как мёртвые; один из барабанов с 1200 трубок проводили над головками — шевелятся и дёргаются антенны (усы), но не сразу, а через неск. сек., и такое же последствие; затем останавливаются. От руки — лишь чуть-чуть. От других предметов — ничего не реагирует. Эти опыты повторим с большими поверхностями и официальной протоколизацией. По-моему, частица насекомого — это не животное, а в некотором роде «прибор»[24]
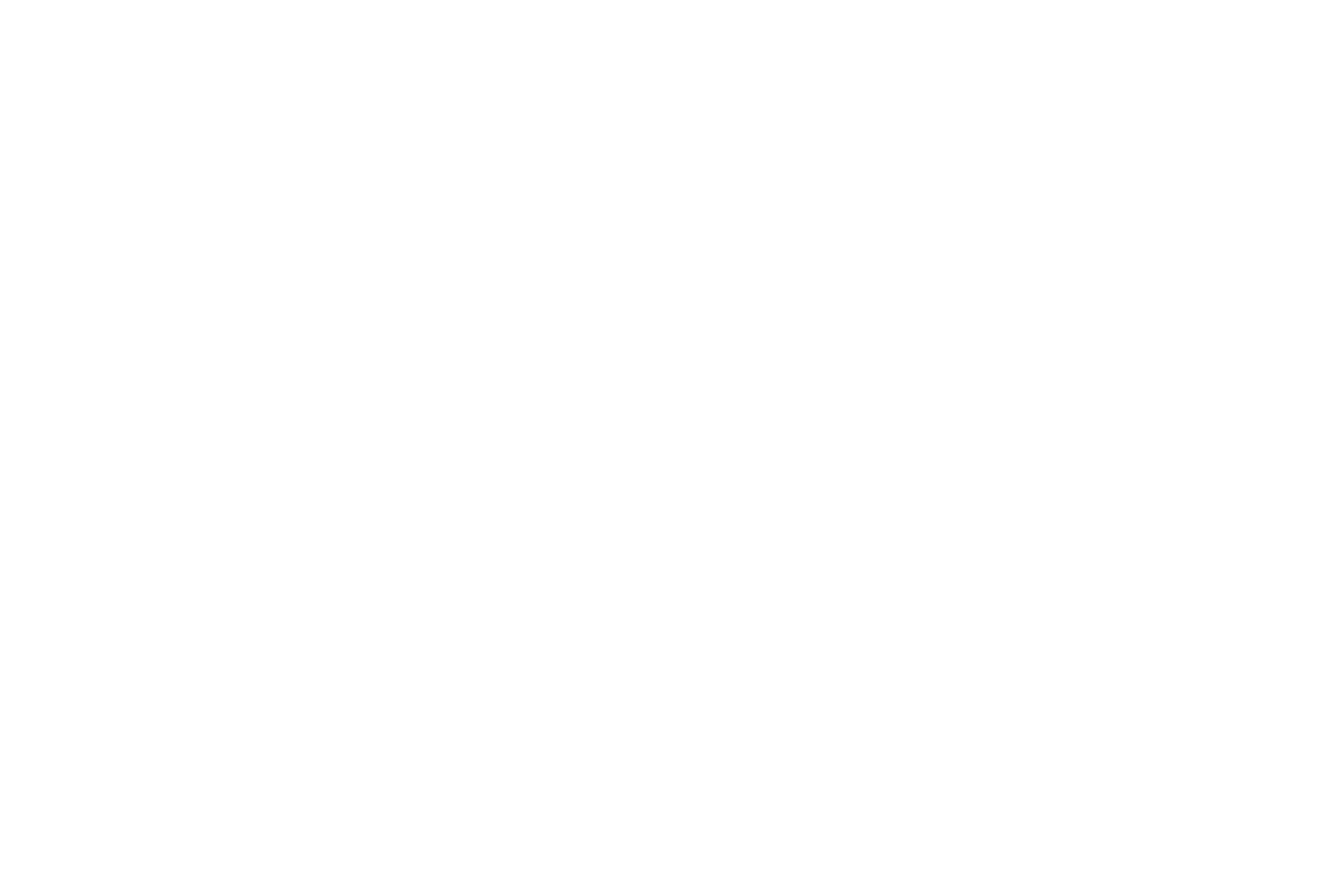
Полость. Наиболее известным покровителем искусств и наук в позднем средневековье был император Священной Римской империи Рудольф II. Основанная им в Пражском граде резиденция, включала в себя не только одну из первых кунсткамер, но и большое количество алхимических лабораторий, библиотеку, сад с экзотическими животными, обсерваторию для астрологических изысканий и многое другое. Не особо многословный, но манерный император предпочитал государственным делам пребывание в лабораториях и кунсткамере. «И художники, и ученые при дворе Рудольфа разделяли стремление эпохи выйти за пределы внешнего облика мира и чувственного опыта. Они изучали силы, действующие в мире вокруг них, не как отдельные и механические шаблоны причин и следствий, а как динамичную систему божественных соответствий»[25]. Рудольф II привлекал и всячески поддерживал наиболее заметных деятелей своего времени. Так, под его покровительством в разные периоды жизни находились Джордано Бруно, Джон Ди, Иоганн Кеплер, Тихо Браге, Эдвард Келли и другие. В 1590-х годах на служение Рудольфу поступил художник-натуралист Йорис Хуфнагель, самопровозглашенный «Inventor Hieroglyphicus et Allegoricus» (изобретатель иероглифов и аллегорий)[26]. Помимо подаренных им Рудольфу картин, изображающих различные города, национальные костюмы и обычаи народов, Хуфнагель передаёт на хранение в коллекцию Пражской кунсткамеры четырёхтомную рукопись, составленную им в период с 1575 по 1582 год. Каждый из томов включает сотни натуралистичных гравюр животных, разделённые между собой на классы представленных животных, согласующихся с какой-либо из стихий, что и послужило названием работы: Четыре стихии. Первый том, Ignis (Animalia rationalia et insecta) — Огонь, посвящён самым чудесным на тот момент существам: насекомым. «Ассоциируя своих насекомых с огнём, Хуфнагель соединил их с самой необыкновенной стихией, со стихией, которая ассоциируется с зарождением и дематериализацией, самой изменчивой, самой динамичной, самой непостижимой и — в Европе раннего Нового времени — самой чудесной»[27]. Ignis (том, который был первым в мире большим каталогом известных насекомых) открывается гравюрой, на которой изображен Педро Гонсалес, смотрящий прямо на нас человек с гирсутизмом — оборотень, нарушающий границы человеческого и не-человеческого самим своим обликом. Этот обращённый на нас взгляд удивительного подсказывает, как и для чего Хуфнагель, которого мы могли бы назвать предшественником Гребенникова, сосредотачивается на насекомых. Он не просто демонстрирует посетителям-аристократам занятные диковины кабинета редкостей, но указывает на точку зрения самого чуда, с которой чудесным также становится то, как и что насекомое видит в мире (включая нас)[28].
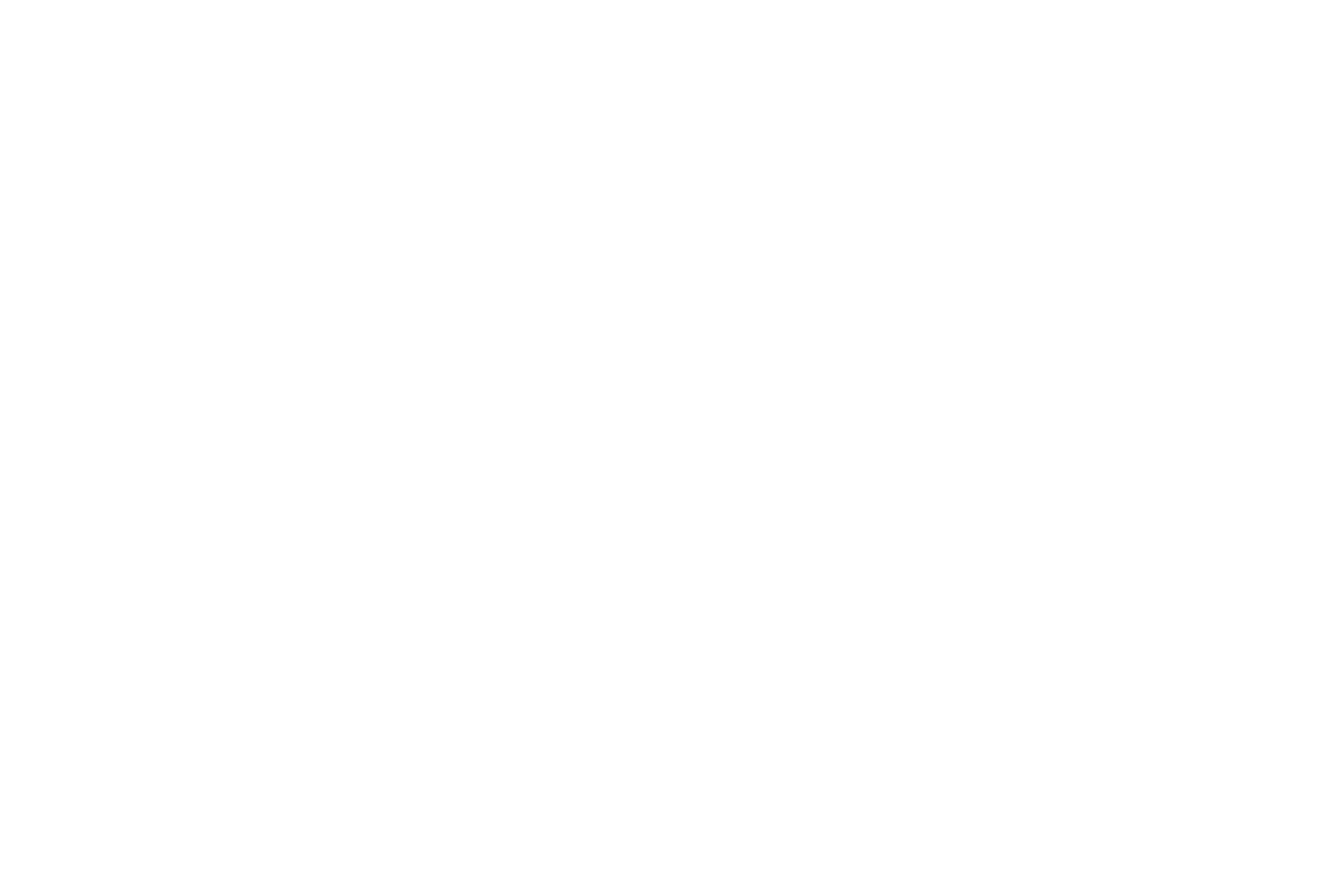
Начиная с конца XVII века кунсткамера уступает другим, более специализированным пространствам экспозиции. С одной стороны, музеям истории и искусств, частным коллекциям работ мастеров своего времени, с другой — научным лабораториям, созданным Бойлем и его последователями[31]. С этих пор лаборатория и осуществляемый в ней научный эксперимент дают слово природе, где она высказывает о себе истину, неотличимую от вынужденного, вымученного показания. Музеи искусств высказывают истину о чувствах человека без отношения к природе: объекты, некогда вызывавшие удивление, переквалифицировались в китч: коллекционеры раннего модерна вдруг обнаружили, что чудо слишком вульгарно и не утонченно, в отличие от всецело человеческого искусства. Каждое из пространств постепенно исключает своего мерцающего двойника: в музее нет места природе (она мыслится, только будучи пропущенной через чувства художника), в лаборатории нет места искусственному-слишком-человеческому (как показывают Дастон и Галисон, к концу XIX века субъективное полностью выпаривается из науки, образуя то, что мы сегодня понимаем под объективностью, внешней по отношению ко всем формам чувственного[32]). И важным является то, что в этих специализированных пространствах мы больше не находим места для чуда (как не находим его нигде за пределами музеев). Именно с этого момента объекты, ещё недавно с особой страстью собираемые со всех уголков света и искрящиеся сверхъестественностью (к ним мы, конечно, должны отнести и объекты Гребенникова), оказываются в том же внешнем, что и чудо. С момента очищения мира от чуда становится проблематичным найти для чудесных технических объектов место в природе — место, где они могли бы существовать и функционировать. Бойль замыкает науку и технику на механистически понятой природе: природа говорит, поскольку она технизируется, техника работает, поскольку через неё говорят факты. Как показывает Латур, проблема этих фактов в том, что у нас до сих пор нет возможности определить, конструируются ли они, являются ли они предумышленными. Вопрос креационизма: умозрительность классической рациональности позволяет вещам и явлениям существовать до существования, с чем мы регулярно сталкиваемся в высказываниях, скажем, математиков[33].
Важно отметить, что очищение мира от чуда совпадает по времени с другим важным исключением. «Целое разношёрстное племя — венерические больные, развратники, расточители, гомосексуалисты, богохульники, алхимики, либертины — во второй половине XVII в. внезапно оказалось за пределами разума, в стенах приютов, которые спустя одно-два столетия превратятся в замкнутое поле безумия»[34]. «Ордонансом от 1628 г. для всех колдунов и астрологов предусматривалось телесное наказание и штраф в размере 500 ливров»[35]. Сложно не заметить, что в бесконечных списках уличённых в неразумии лиц через одного появляются люди, принимавшие участие в сборе и осмыслении объектов для кунсткамеры. Мишель Фуко описывает как классическая эпоха лишает безумие голоса и способности высказать истину о себе, заточая его «во внутреннем внешнего и во внешнем внутреннего»[36]. Исключение неразумия производит зону неосмысливаемого и невысказываемого, «воцаряется абсолютное молчание; у безумия и разума больше нет общего языка»[37]. И если это исключение производится в отношении разума — его двойник оказывается заточён во внешнем, — то исключение чуда соответствует овнешнению уже внешнего неразумия. Чудо становится как видом неразумия, так и внешним самого безумия, его экстериоризированной полостью, внутри которой оно только и может произойти. Абсолютное молчание касается не только безумца, но и чуда, так как истина о нём не может высказаться ни природой, которая становится истоком рациональности, ни человеком, не становящимся при этом безумцем. Отвечая на критику Деррида, Фуко показывает важные различия в тексте Декарта, фрагмент которого разбирается для демонстрации исключения безумия. Фуко показывает разницу между insani и demens (а также dormiens, когда речь заходит о сне) в знаменитом примере: «Но ведь это сумасшедшие, и я сам оказался бы не менее безумным, если бы руководствовался их примером». Если Деррида пытается доказать, что Декарт в действительности говорит о сне (dormiens), который является универсальным случаем, в отличие от частного безумия, то Фуко настаивает на более принципиальном различии. «Быть insanus это значит принимать себя за то, чем не являешься, верить в химеры, быть жертвой иллюзии — это что касается симптомов; а что касается причин, это значит иметь помраченный парами чёрной желчи мозг»[38]. Тогда как demens является юридическим термином, обозначающим «категорию людей, неспособных к некоторым религиозным, гражданским, юридическим актам; dementes не располагают полнотой своих прав, когда речь идёт о том, чтобы говорить, обещать, брать на себя обязательства, ставить свою подпись, возбуждать дело и т. п.»[39]. Невозможно, будучи demens, начать размышление, как невозможно голосовать на выборах, не достигнув совершеннолетия. И также невозможно, находясь в контексте непоколебимых законов природы, высказать от их имени чудо, сделать предметом высказывания сверхъестественное, эти законы нарушающее. Возможность размышлять может быть реализована лишь через деятельность бодрствующего ума, сообразующегося с такой же вечно бодрствующей природой, но невозможно ни начать размышление, ни сообразовать его с природой, не исключив тем самым способность природы к безумию.
Чудо оказывается в двойном забвении. С одной стороны, истину о нём не может высказать рациональный рассудок, не соскальзывая в безмолвную позицию безумца. С другой стороны, чудес не бывает, потому что есть рациональность, и она устойчива: как позже доказывает Кант, если нарушающие естественный порядок чудеса происходили бы (или происходили бы слишком часто[40]), рациональность бы не оформилась[41]. Но вместе с исключением безумия как невозможности высказать истину о себе для рациональности исключается и природа, которая могла бы высказать истину о себе через чудо (то есть через приостановку собственной каузальности). Сама природа, замкнутая в фактах о ней, добываемых экспериментальным методом, теперь также не способна выразить чудо, поскольку в природе нет места, из которого средствами природы (которые могут быть удостоверены техникой) можно было бы высказать сверхъестественное. В природе нет места для чуда, во всяком случае его нельзя указать средствами природы (находящейся в своем уме) и разума (соответствующего такой природе).
Физики говорят: это «за пределами наук», так как «противоречит законам природы». Закавыка в том, что Батиплектес анурус этого не знает... Не знали «запрета» физиков и опытные, видные биологи, честно написавшие на 26-й странице академического определителя насекомых Европейской части СССР (том III, часть 3): «Кокон подпрыгивает в результате резких движений личинки внутри кокона». Одним словом, действующий — и проверенный! — образчик надёжного безопорного движителя и даю читателю, так что заводи наездников этого вида, изобретай, конструируй, мастери — и в добрый путь![42]
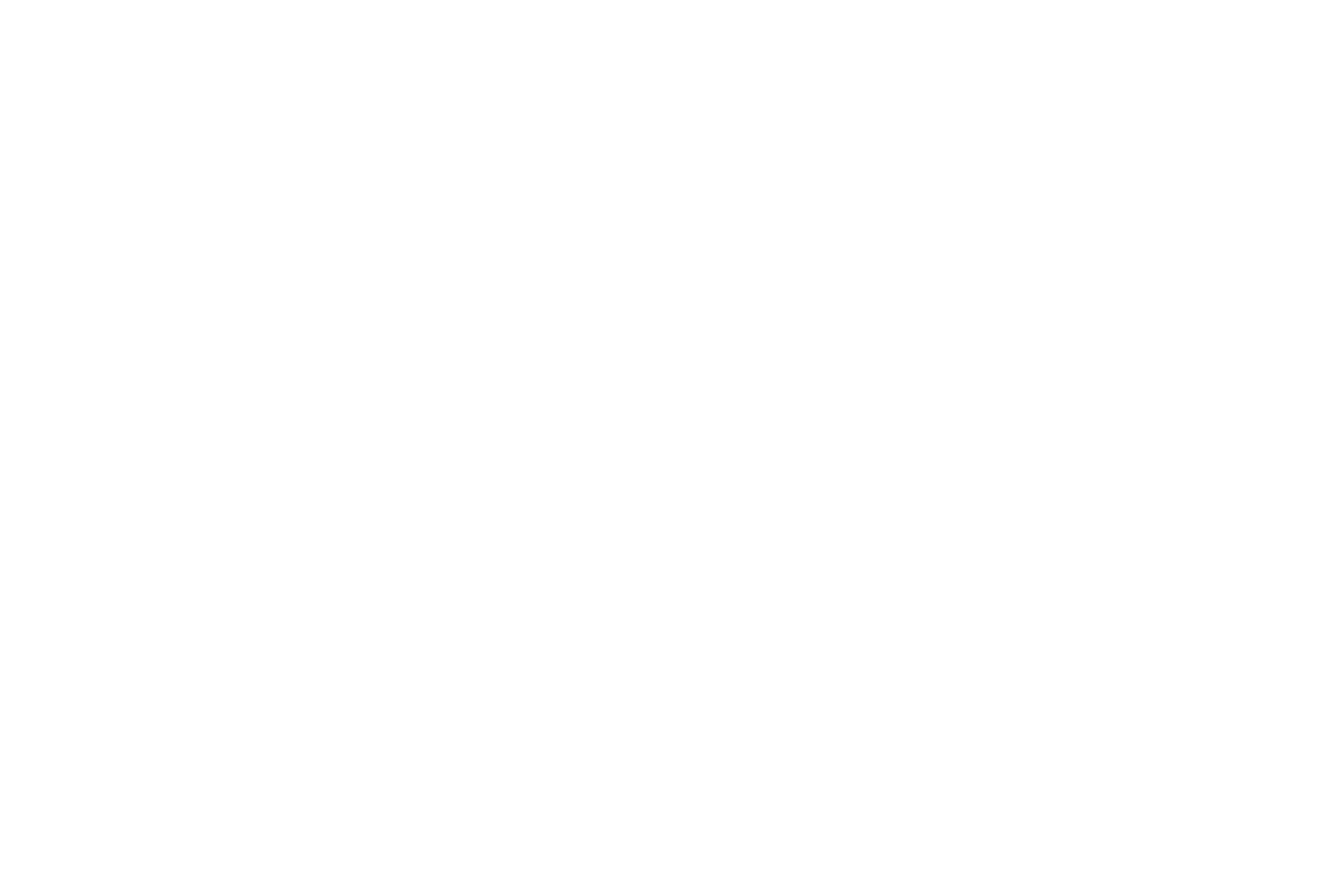
Обнаружив на надкрыльях жука «непривычный удивительный микроузор», не наблюдавшийся «ни у других насекомых, ни в остальной природе, ни в технике или искусстве»[44], соорудив из этих надкрылий «хитиноблок», способный удерживать на весу канцелярскую кнопку, поднимая её в воздух, Гребенников конструирует небольшую техническую деталь, образующую поле беспредельности, которое, однако, должно конкретизироваться в опытную модель реального устройства. Но этого было бы недостаточно для возникновения чуда, конкретизация в контексте научного производства предполагает исключение возможностей объекта высказать истину об актуализации собственной невозможности. Для того, чтобы мы могли столкнуться с чудом, объект необходимо деконтекстуализировать, то есть поместить в определённого типа экспозиционное пространство «относительности без инстанции»[45], чтобы вызволить из молчания его невероятность. В пространство, созданное для того, чтобы вызывать удивление. Мы должны без преувеличений, заискиваний или допущений исходить из того, что пространство Музея агроэкологии и охраны окружающей среды оживляет невероятность чудесных объектов, нарушающих границы и классификации. Перед нами не частные, заведомо решённые для науки, культуры и общества проблемы, а объекты, безусловно вызывающие удивление именно за счёт того, что они находятся в кунсткамере.
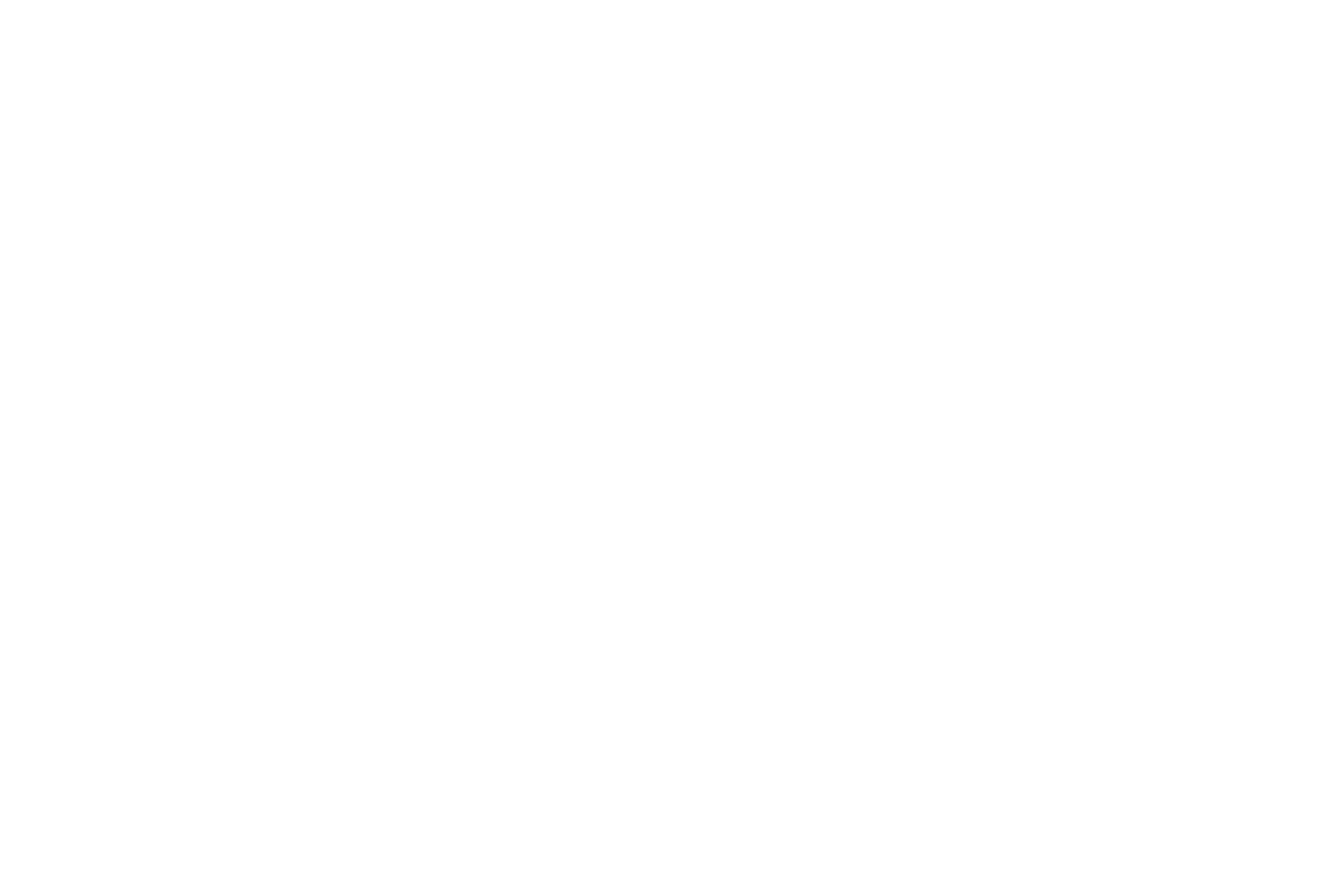
II
Таким образом, всё излучает свет, всё, абсолютно всё! Мы живём в мире, полном сияющей материи. Подобно тому, как на солнце происходит стремительное излучение света, так и на земле происходит чрезвычайно слабое излучение света, довольно равномерное, от всего, что там находится[46]
Я проводил наблюдения в тёмных подвальных помещениях, где располагал культуры, устанавливая их десятками, чтобы добиться усиления воздействия. Наблюдения в темноте были в какой-то степени «жуткими». После того, как глаза привыкали к темноте, комната оказывалась не абсолютно чёрной, а серо-голубоватой. Я видел туманные испарения, голубоватые световые черты и летящие точки. Казалось, будто тёмно-фиолетовые отпечатки появлялись из предметов и стен. Эти световые отпечатки, целиком голубые или серо-голубые, становились сильнее, отдельные черты и точки увеличивались, если я держал перед глазами лупу. Очки с чёрными стеклами ослабляли это восприятие. Происходившее сбивало с толку. Я ещё не знал, что оргонное излучение специфическим образом раздражает зрительные нервы и порождает ложные изображения[47]
Этому положению способствовала также послевоенная популярность инженерно-технического работника (ИТР). С 50-х годов «итээры» стали основной социальной группой, ответственной за модернизацию и авторефлексию советского telos`а, «начался “лавинообразный рост числа молодых инженеров и научных исследователей”, связанный как с необходимостью решения ряда конкретных задач по укреплению обороноспособности страны в условиях холодной войны (речь здесь следует вести прежде всего о советском атомном проекте), так и с более общими потребностями стремительно развивающейся и усложняющейся плановой экономики»[51]. Однако, несмотря на кажущиеся комфортными условия для возникновения музеев технических редкостей, их создателей сложно назвать бенефициарами системы и выходцами из привилегированной социальной страты. Скорее наоборот, изобретатели вроде Виктора Гребенникова являлись вечно заключенными во внутреннем исключении (внешнее внутреннего), выбраться из которого им, по большому счету, так и не удалось (более чем вероятно, что это правило касалось каждого; всякое ощущение открытых дорог неминуемо сталкивалось с полумагической советской бюрократией, хорошо описанной Стругацкими в «Сказке о тройке»; сами «итээры» лишь более чутко относились к воображаемой справедливости, осуществляемой по отношению к ним со стороны не менее воображаемого народа). Если классическая кунсткамера — удел императоров и элиты, загибание макрокосма здесь неотличимо от эксплуатации универсума и господства над ним, то кунсткамера советских инженеров — это насильственное загибание мира со всеми его противоречиями в самого изобретателя. Такое загибание приводило к особого рода экологизму: мир, являющий чудо, в том числе такое, которое отменяет страдание в уже чудесном (советском) мире, выглядит как проблески или свет с другой стороны известного — со стороны того, что одинаково невероятно как для пролетарского, так и для буржуазного миров (чудо за пределами уже чудесного).
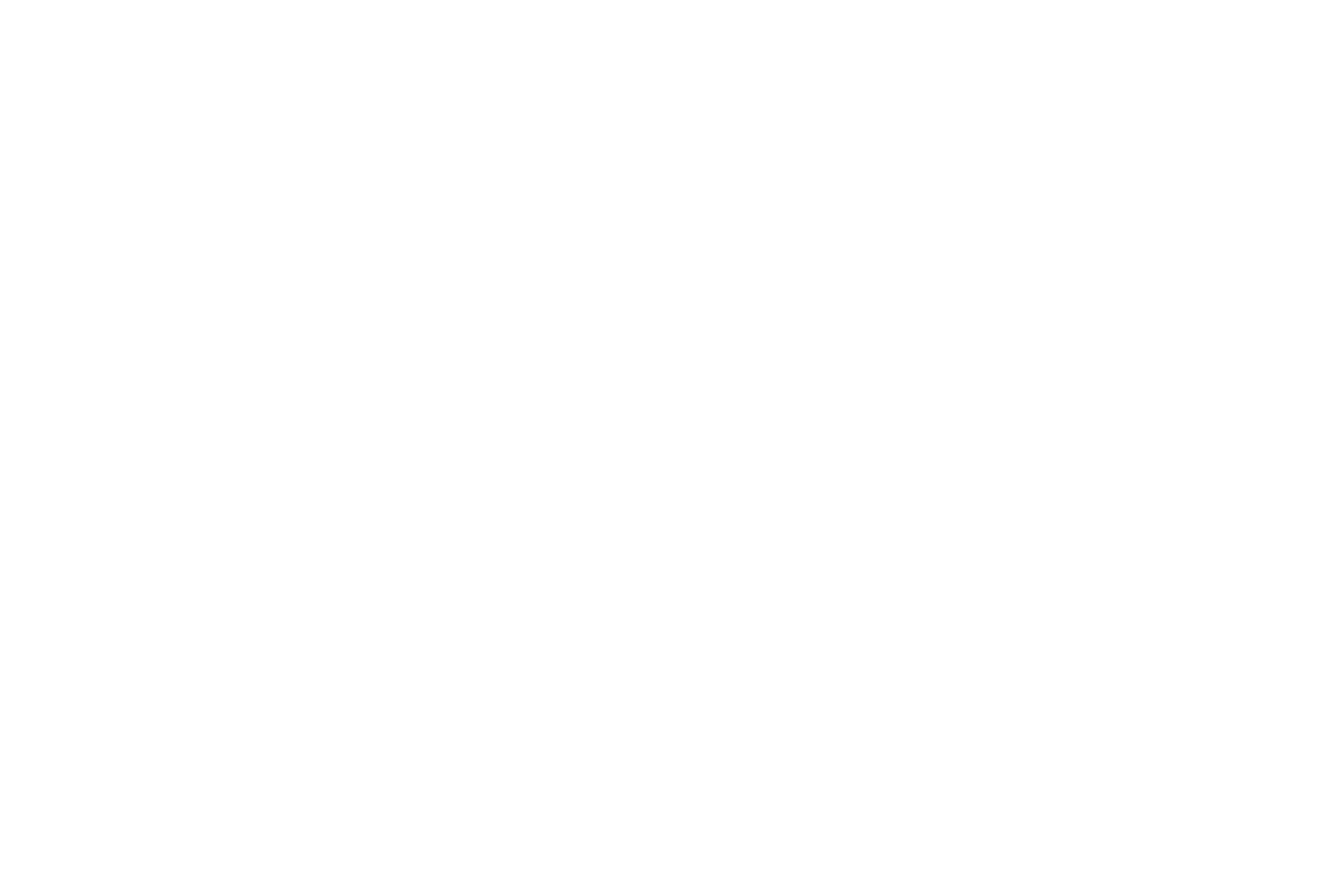
Разряд. Между Месмером и Фрейдом есть, как считают некоторые историки, потерянное звено — барон Карл фон Райхенбах. К исследованиям психики барон пришел уже в преклонном возрасте, до этого отметившись открытием парафина, креозота и ряда других дистиллятов. Ближе к середине XIX века он стал собирать свидетельства об истерии, сомнамбулизме, лунатизме и фобиях. Будучи крипто-месмеристом (благодаря библиотеке Райхенбаха, например, сохранились чертежи и описание знаменитой батареи «baguet», которую Месмер применял в качестве медицинского аппарата), барон быстро отказался от идеи интериорного происхождения отклонений и сосредоточился на поисках внешних энергий, конституирующих психическое. Истериков и лунатиков он вызволяет из ямы исключения и нарекает сенситивами: их состояния суть не заболевания, а сверхчувствительность, которой они награждены от рождения. Сенситивы сверхчувствительны в отношении открытого впоследствии «Ода»: сверхпроникающей энергии, которую излучают все объекты. Райхенбах не без удивления обнаруживает то, что известно каждому сенситиву — реальность светится, все объекты источают поляризованное (положительный и отрицательный Од) пламя, динамика взаимодействия с которым и является тем, что структурирует психику (прохладное синее пламя успокаивает, красный огонь вызывает неприятную реакцию). Само бессознательное оказывается расположено вовне, среди объектов и как производное от их комбинаторики (а также от силы излучаемого ими Ода). Сенситивы всегда видели Од, но стеснялись рассказать нам об этом. Райхенбах создает огромные лаборатории на базе собственной резиденции, погружая во мрак целые этажи так, чтобы сенситивы могли передвигаться и находить предметы руководствуясь исключительно свечением Ода, таким образом выступая в качестве детекторов (за это Райхенбаху доставалась доля критики — например, от Уильяма Карпентера, для которого сенситивы не меньшие олухи, чем какие-нибудь лозоходцы: уберите, говорит он, искомый объект из комнаты, и сенситив наверняка ещё полчаса будет крутиться вокруг места, где он был). Различные материи излучают Од по-разному, что-то сильнее, что-то слабее. Больше всего Ода производят кристаллы и магниты. Од можно наблюдать среди звёзд или в облаках. Заряженная Одом вода будет вызывать у сенситивов приятное чувство или тошноту (в зависимости от полярности). Также Од концентрируется на кладбищах (некробессознательное). И главное: по свечению Ода можно диагностировать состояние человека.
Семён Давидович с супругой приступают к экспериментам (с небольшим перерывом в связи с мобилизацией на Великую Отечественную Войну: Кирлиан был демобилизован по состоянию здоровья). Первые результаты не дают ничего, что сколько-нибудь удовлетворяло бы изобретателей: вместо фотографии коронных разрядов они получают «тёмные контуры кисти, а на фоне контуров пальцев белые кости»[55], то есть свою версию рентгенографии плюс ожоги кожных покровов. Совершенствование оборудования и получение с его помощью приемлемых изображений занимает у супругов десять лет. Всё это время эксперименты они ставят в собственной крохотной квартире. Экспериментируют с подачей тока, обкладкой, конденсаторами, изучают способы получения удовлетворительных снимков, погружаясь в механику электронной оптики. 2 августа 1949 года нотариально заверяется первая фотография, а 5 августа изобретателям вручают авторское свидетельство № 106401 на «Способ получения фотографических снимков различного рода объектов».
Экспериментированию с приборами сопутствует изучение полученных изображений, на которых запечатлено свечение различных биологических объектов: листьев, рук, монет, булавок и пр. Это свечение разнородно и непостоянно. Мир, который открывается благодаря этому свечению, сообщает нечто новое об ординарных объектах. Свечение здорового листика отличается от свечения больного. Здоровый лист тоже от раза к разу светится по-разному, будто сигнализируя о том, чего ещё нет, но что может случиться (впоследствии продолжателями дела супругов Кирлиан этому явлению будет дано название — «функциональное состояние», то есть вероятностный слепок, указание на область тела, где болезнь ещё не проявилась, но эта область уже требует заботы о себе). Сам контур светящегося объекта, его крайняя грань, неразличимая с внешним, оказывается «своеобразным органом»[56], генерирующим избыток информации о возможностях системы[57].
Берём микроскоп, конструируем разрядно-оптическую обкладку, приникаем к окуляру, и нашему взору представляется фантастический мир. Самые разнообразные разрядные каналы совершают какую-то свою сложную работу. Каналы-великаны буйно полыхают лилово-огненным пламенем. А рядом, в «глыбах» кожного покрова, спокойно светятся оранжевые и голубые «карликовые звезды». Отчего же «великаны» лиловые, а «звезды» оранжевые и голубые? И отчего они разной величины? Полыхают и «зарницы». Это мерцают «кратеры», только из них извергается не огненная лава, а сияние, подобное полярному. То тут, то там пронзительно вспыхивают неразлучные близнецы желтого и голубого цвета. А это что за пары? Вот, словно из подземелий, выплывают блеклые медузообразные фигуры. Они колышутся и плывут в пространстве, отыскивая себе подобных, и, встретившись, сливаются с ними или скрываются в другом подземелье. А некоторые разрядные каналы временами, словно освещая язычком пламени свой путь, гуськом спешат вдоль кожных «ущелий». Откуда и куда бредёт этот «караван»? Вот они загадочные труженики высокочастотного поля, хранители тайн живого организма, родоначальники мира![58]
Присутствие того, что находится по ту сторону света, не удостоверяется одними лишь снимками свечения, оно конкретизируется через технику. Техника производит свет, пропускает его через невидимые объекты, но она уже указывает на его изнанку: объекты, несовозможные реальности, которая собирается вокруг (или внутри) света. Истечение света, разряды и свечения на поверхности тел свидетельствуют о том, что сами тела остаются поверхностями, под которыми есть ещё-не-освещенные тела и никогда-не-освещаемые тела, тела воображения и грёз, тела каузально противоречивые, тела чудесные, которые одновременно находятся в пределах и за пределами тела, исторгающего свет. Реальность, находящаяся по ту сторону видимости, оказывается реальностью, которая не может совпасть во времени с нашей реальностью, она всегда остается возможной, дабы не привести нашу реальность к коллапсу и встрече с реальным чудом. Удивление, с которым мы сталкиваемся, — это тонкое чувство подозрения; зрение, которое обходится без видимости.
Тем не менее, снимки, получаемые с помощью эффекта Кирлиана, остаются видимыми. Для того, чтобы выразить «нечто световое»[60], столкнуться с «вещами, светозарными самими по себе, когда ничто их не освещает»[61], требуются дополнительные операции по складыванию свечений. Когда мы наблюдаем за узорами коронных разрядов на фотографиях, полученных методом Кирлиана, нас «можно сравнить с человеком, который из всей симфонии воспринимал бы только движения дирижерской палочки»[62]. О какого рода опыте мы можем говорить, когда имеем дело с таким свечением? Является ли такой опыт чем-то отличным от восприятия дирижерской палочки в отрыве от всего остального? Да, но светящаяся материя осуществляет незримую прибавку (мы вынуждены прибавлять и прибавлять, собирая все больше снимков «ауры», чтобы понять то удивление, которым жил Кирлиан). Мы можем по движениям дирижера и музыкантов восстановить звучащее, но также можем создать новую симфонию. Следы и их расшифровка не сообразуются с реальностью, их производящей, но создают собственные серии опыта, дублируют и реальность, и опыт. Функциональное состояние системы (органов, тела, души) сообщает о чем-то удивительном. Снимок по методу Кирлиана указывает лишь на движения палочки, то есть указывает зону воображения, которая может быть заполнена тавтологией (мы лишь видим коронный разряд) или чудом (темперамент разряда выражает невозможное). Снимок позволяет пережить не-жизненное (и сам является таковым), некое разворачивание или конкретизацию невозможных миров, с которыми мы встречаемся лишь в воображении, поскольку голое сознание не способно вынести не-жизненное[63]. Заглядывая вглубь свечения на снимках, мы оказываемся в потоке того, что не может быть пережито в сознании[64].
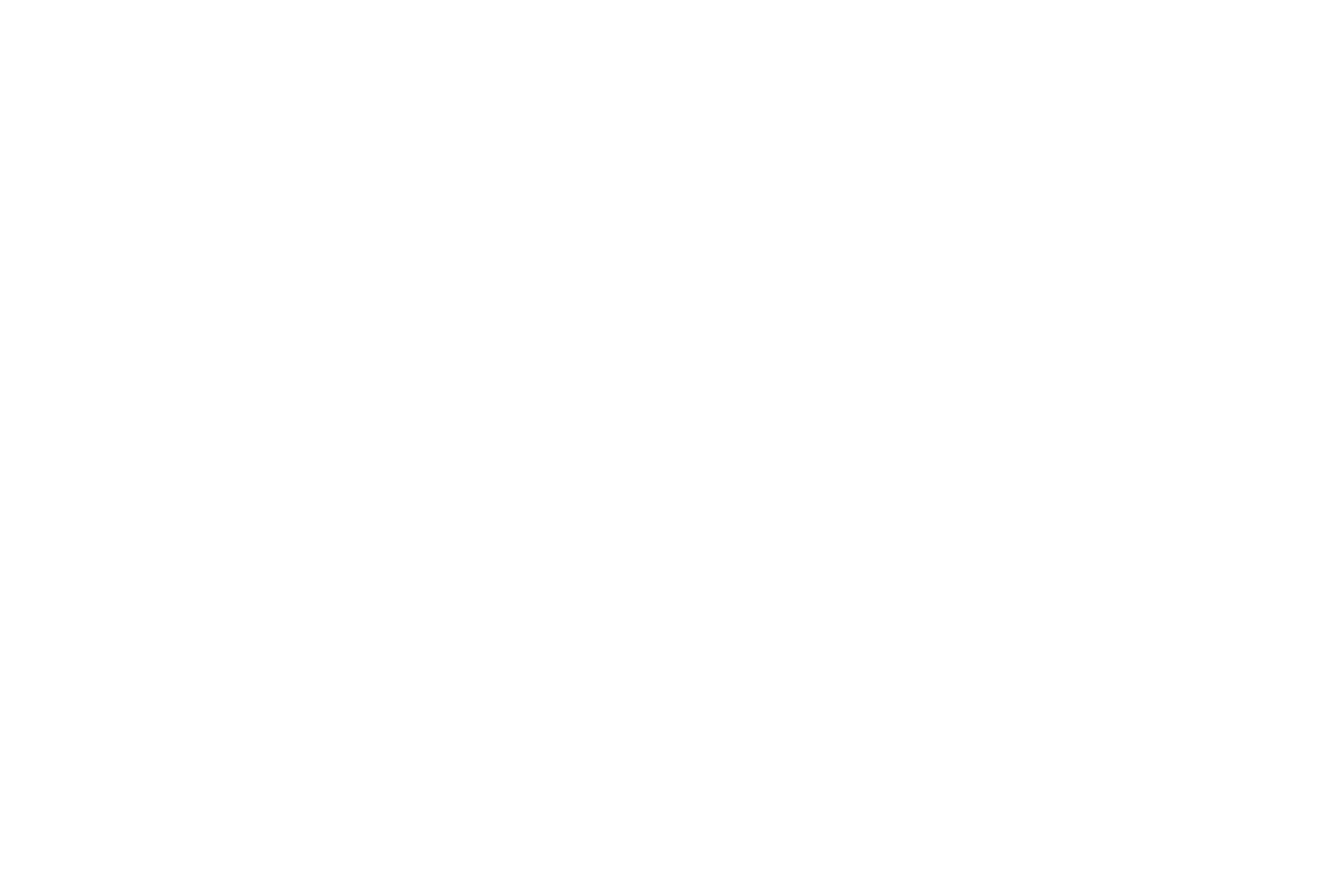
Передача мысли на расстояние — факт. Каким же образом, каким механизмом это осуществляется? Очевидно, деятельностью нервных клеток мозга. Рождение мысли сопровождается химическими процессами, выделением определенных химических веществ и электрического разряда — энергии. Эта энергия (в зависимости от её силы) может распространяться с различной скоростью и на различные расстояния. Нам несколько раз удавалось видеть эти сферические скопления, напоминающие в миниатюре шаровую молнию (как её описывают в литературе), с помощью разрядно-оптической обкладки конденсатора, но фиксировать её мы пока не можем[65]
Каждое тело, находящееся в атмосферном электрическом поле, так же как и тело т. Криворотова и его пациента, поляризованы отрицательным знаком (потенциалом Земли), поскольку кожа пальцев и ладоней т. Криворотова, как уже упоминалось, как бы покрыта «диэлектрической перчаткой», то на ней может индуцироваться заряд любого знака. Во время процедуры при наложении рук на голову или тело пациента электрические заряды тела отталкивают отрицательные заряды «диэлектрической перчатки» и индуцируют на ней равные по величине электрические заряды положительного знака. Таким образом, между кожей рук и кожным покровом пациента формируется электрическое поле, которое по напряженности будет тем выше, чем меньше между ними расстояние (обратно пропорционально квадрату расстояния). Электроны и аэроны, находящиеся в воздушном промежутке под воздействием динамических сил поля, будут устремляться к противоположным по знакам зарядам: положительные — к коже рук, взаимодействуя с ними[67]
Разряд. Понятие сверхъестественного, возникнув на рубеже XVII–XVIII веков, вплоть до середины XX века очерчивало в первую очередь область психических явлений, без их отношения к природному. Курс лекций Les Anormaux Мишеля Фуко (в русском переводе «Ненормальные») посвящен как отклонениям от нормы, так и аномалиям (английское abnormal сохраняет эту двусмысленность). В русской традиции ненормальность используется при описании видов неразумия, тогда как аномальность закрепилась за физическими явлениями. Любопытно здесь то, что термин «паранормальное» появился благодаря переводу термина сверхъестественное на французский, и обратно на английский. Вот, что пишет о сверхъестественном Фредерик Майерс, один из основателей знаменитого Лондонского Общества Психических исследований: «Под сверхъестественным явлением я подразумеваю не то, которое отменяет естественные законы, поскольку я верю, что такого явления не существует, а то, которое демонстрирует действие законов более высоких, в психическом аспекте, чем те, что действуют в повседневной жизни»[68]. Сверхъестественное имеет к разуму то же отношение, что и неразумие — то и другое заключается разумом в область неспособности высказывания истины о себе, между ними пролегает различие в степени, а не по природе. Телепат или ясновидящий — всё тот же безумец, только более (эволюционно?) продвинутый. Паранормальное же, которое становится описанием ненормальности (или неразумия) природы, возникает лишь к середине XX века и, возможно, является не чем иным, как экстериоризацией психической ненормальности (неотличимость разглаживания складки от её повторного загибания). Чудо природы имманентно безумию (в отличие, например, от трансцендентности воли Шопенгауэра, действующей за пределами принципа достаточного основания), а сбои каузального порядка — это сопротивление природы (научной или модерной) дисциплинаризации.
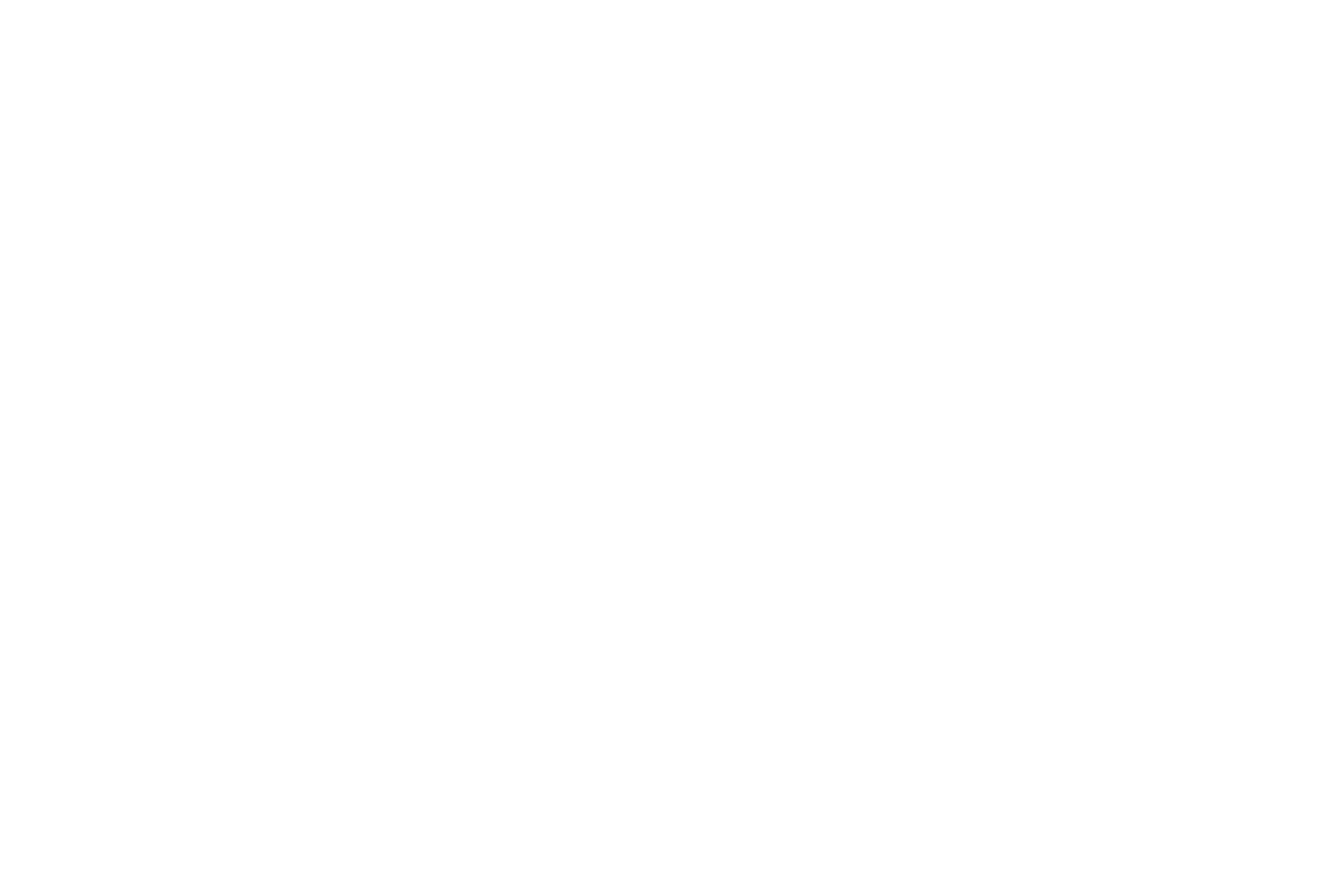
По изначальной идее музей супругов Кирлиан должен был располагаться в их квартире в Краснодаре, в доме 93 по улице Кирова. Однако дом был приватизирован и весь собранный архив Елена Григорьевна переместила на хранение в станицу Динскую, где она уже была на тот момент директором краеведческого музея. Там в 1986 году ею и была собрана экспозиция из личных вещей супругов (сохранена мебель из их квартиры, шкафы, лампы и вазы), библиотеки изобретателей (порядка 500 книг с авторскими заметками и бумажными обложками, сделанными и подписанными Кирлианом) и главное — серии технических и лабораторных объектов, а также массива электронографий, выполненных по методу Кирлиан самими супругами и их последователями. Ординарные технические объекты, будь то амперметр, вольтметр или экспонометр, как и в случае музея Гребенникова, соседствуют с невероятными приборами, сконструированными Семёном Давидовичем, — вакуумной камерой и трубкой, высоковольтными генераторами, электромагнитом, кювейтой (а также с изобретенными Кирлианом деталями, техническими элементами, изготовленными из подручных материалов вроде обычной консервной или стеклянной банки: колбами для газоразрядной камеры, химическими сосудами и стаканами, смесителями и кранами). Как и в случае с Музеем агроэкологии, мерцающая двойственность объектов, предполагающих и демонстрирующих несовозможный нашему мир, заряжает и проблематизирует границы всех соседствующих объектов, указывая на меру их беспредельности.
Эта беспредельность вложена и в принципы расширения экспозиции: Елена Григорьевна не консервирует коллекцию, но стремится бесконечно дополнять её всем, что создаётся последователями и продолжателями дела супругов Кирлиан. Она коллекционирует технические объекты, основанные на разработанных ими принципах, и снимки, выполненные по их методу, до последнего времени проводила международные конференции в Динской, обязательно затем расшифровывая и издавая тексты докладов, чтобы сделать их частью музея; она находит и выставляет публицистические заметки, а также литературные работы об изобретателях. Сборка коллекции продолжалась до 2016 года, пока Елена Григорьевна не ушла на пенсию. С тех пор коллекция почти не пополнялась. Краеведческий музей переехал на новое место, и его возглавил новый директор. Музею супругов Кирлиан была отведена маленькая комната («10 квадратов, прямо как их квартира!» — сообщает нам экскурсовод). Монтаж новой экспозиции осуществлялся без консультаций с Еленой Григорьевной, что сильно её огорчает: по её словам, новая экспозиция собрана без души — в вазе стоят обычные цветы, тогда как Валентина Хрисанфовна всегда ставила фиалки, скатерть на столе не оригинальная и чрезмерно цветастая, спектрометр стоит на столе, тогда как должен стоять на полу и т. д. Эти обстоятельства также создают особое напряжение между ординарностью и несовозможностью. Так, (муниципальный) экскурсовод отмечает, что стулья, которые заявлены как оригинальная мебель из квартиры супругов Кирлиан, на самом деле подобраны по сходству на основании сохранившихся снимков их квартиры. Коробова настаивает на том, что это утверждение — чушь: она ответственно заявляет, что сама везла эту мебель из Краснодара, воспользовавшись служебным транспортом. Так, даже мебель становится (технически) противоречивой. Мы могли бы произвести анализ материала и подтвердить одну из версий, опровергнув другую, но даже в этом случае напряжение не было бы снято: оно сопутствует логике всей экспозиции, и без этого мерцающего противоречивого удвоения она теряет смысл.
Кенчадзе без слов передаёт внушение на расстояние целым коллективам. <...> Знаком не больше года с А. Е. Криворотовым. Встречаются и якобы обмениваются литературой (по йоге, гипнозу, внушению), но, видимо, скрывают сокровенные профессиональные тайны по лечению. Он [Кенчадзе] очень, очень удивился, узнав, что мы бескорыстно передали заинтересованным людям наши данные о методике фотографирования ТВЧ (токов высокой частоты), и сделал заключение: «Вы, благодаря своему бескорыстию потеряли силу над тайной своих работ, о них знают все, а вы лично не представляете интереса для людей, так как ваш метод легко доступен всем». Мы ему объяснили, что боимся умереть и унести с собой методику и схемы аппаратуры, и тогда всё умрёт вместе с нами. Надо отдать это людям, а если нас не оценивают в смысле материальном, поскольку мы беспомощны употреблять энергию на хлопоты о себе лично, то мы, видимо, так и останемся жить, не получив нужной материальной оценки за свои работы[69]
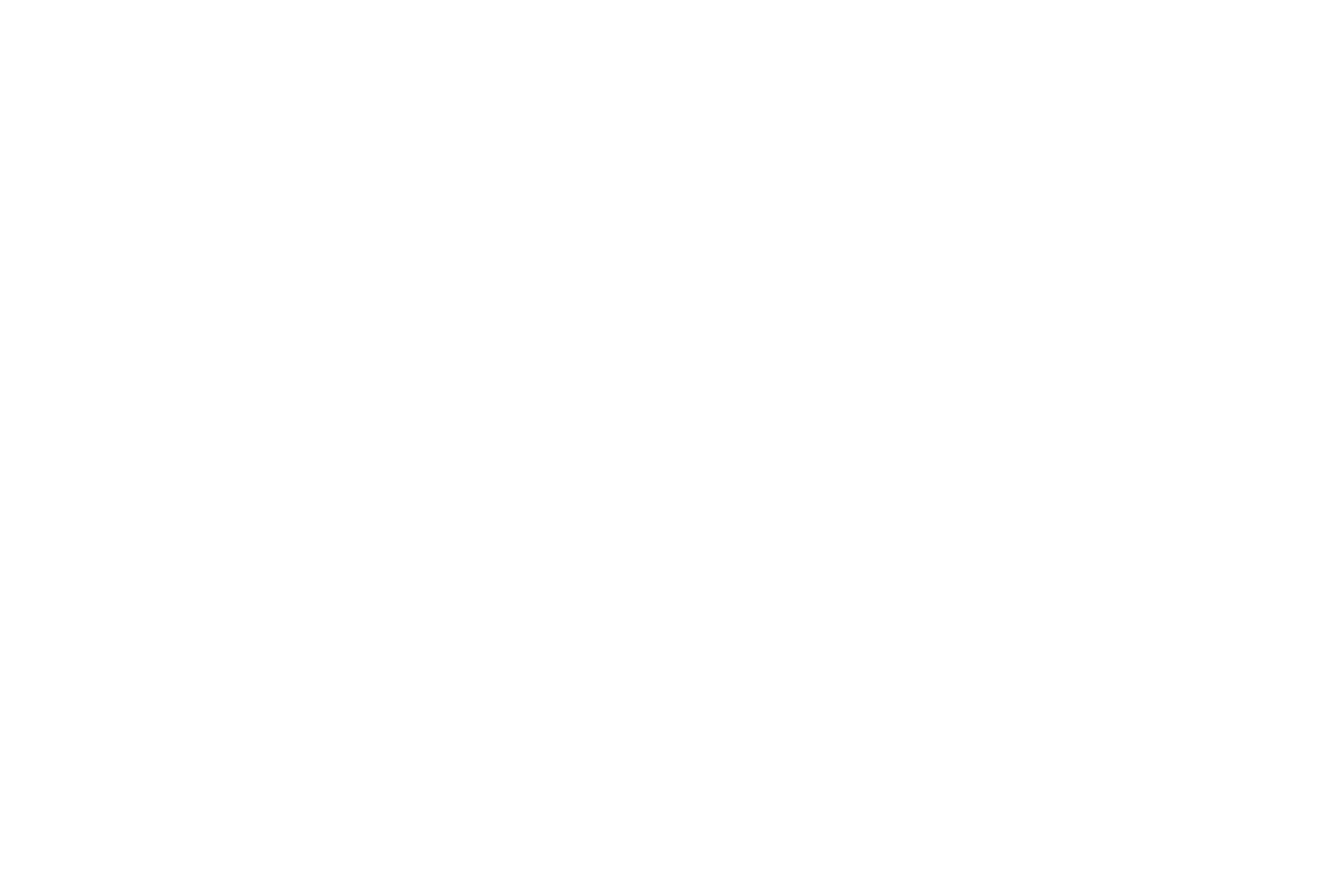
Собиратели классических кунсткамер не подозревали, что страсть к удивлению сообщает в первую очередь не что-то об их собственных чувствах и способностях, но выражает неразличимость удивления и страсти в момент, когда они завладевают каким-либо телом или процессом. Мы можем превозмочь овладевающую нами страсть, рассматривая её как болезненную одержимость, которой следует сопротивляться (или как наваждение, помутнение чувств, трезвое рассмотрение которых показывает, что повстречавшаяся нам аномалия — невозможна). Однако в случае наших персонажей — Гребенникова, супругов Кирлиан, Коробовой и других — мы имеем дело с парадоксальной открытостью[71]. Переставая совпадать с собой, собиратели кунсткамер открывают выражения, находящиеся за пределами границ и классификаций, в области монструозного, пересекаемой беспредельным движением технической гибридизации, конкретизация которой может быть осуществлена только в паре с производством утопического пространства. Не имея возможности занять всё пространство сразу, страсть предстает страстью невозможного локуса, места утопии — отражения в зеркале, которое вмещает в себя все грёзы мира, но не имеет в этом мире места.
Если технические объекты модерна гибридны в той мере, в какой они размывают границу между природным и культурным, технические редкости или неопознанные технические объекты поверх гибридности размывают также границу между первичными и вторичными качествами: это касается как конструирования и устройства аппаратов, так и производимых этой техникой эффектов. В отношении таких изобретений мы не можем найти общий мир, универсальный общеразделяемый фон первичных качеств и законов природы. В каждом конкретном случае мы видим, что первичные качества, с которыми могли бы соотноситься сотовый болеутолитель Гребенникова или высоковольтный генератор Кирлиана, соответствуют скорее нерегулярному, контингентному чувственному. В конце концов, любой технический объект излучает свечение беспредельности, обладает своим гало, но не всякое свечение заметно: организация или композиция этих свечений, их экспозиция позволяет проблематизировать первичные качества, стоящие за ними. Универсализировать эти противоречивые качества невозможно без стробиляции мира со всеми вытекающими следствиями: перемещение между пространствами экспозиции становится перемещением между обычаями (а не законами) различных природ в поле всеобщего различия чувственного без возможной апелляции к принципу единообразия природы. В конце концов, это чувственное неотличимо от порыва или страсти самой материи. Воображение, в рамках модерна также отторгнутое в область чувственного, соответствует воле или страсти материи; воображение — «воля к сверхбытию, не ускользающему, а расточительному, не противоречивому, а упоённому противоположностями»[72]. Но лишь будучи реализовано в невероятных технических объектах (бесконечно проблематизируя саму сущность технического), это воображение способно указать на область исключенного чуда.
Кто говорит, кто высказывается в музеях технических редкостей? Римма Фисечко, единственный на данный момент представитель музея Гребенникова, хранящая первоначальный вид экспозиции и пересказывающая из раза в раз одни и те же пассажи из «Моего мира», или дух Виктора Степановича, распыленный между картинами в своих подписях и незримом присутствии? Елена Коробова, радеющая за пускай не международное, но хотя бы локальное признание супругов Кирлиан, готовая к любым перестановкам внешних сил, влияющим на вид экспозиции, лишь бы у людей был доступ к невероятным открытиям, или сами Кирлиан, говорящие через неё? Говорят ли, в конце концов, сами объекты, ординарные или невероятные, ревностно выбирая собственных представителей из числа человеческого вида, наделяя «даром речи тех, кто собирается вокруг них и обсуждают их между собой»[73]? Скорее, во всех случаях высказывается вся страсть разом. Страсть, обеспечивающая непрерывность между несовозможным нашему миром, локусом или складкой, где эта несовозможность артикулируется, людьми, в которых этот мир (насильственно или добровольно) загибается, и (техническими) объектами-органонами, не отличными от тел, формой выразительности которых они являются: немыслимое внутри мыслимого, мыслимое (и пока ещё видимое), выражающее немыслимое.
Опасность, преследующая (техно)кунсткамеры, заключается, таким образом, в ограничении движения страсти. Может ли кто-либо извне высказаться, представляя какой-либо удивительный объект? Способна ли наука сообщить что-либо об эффекте полостных структур или функциональном состоянии органов? Нет. Для этого наука должна была бы перевести стрелки так, чтобы высказывание объектом истины о себе не было отличимо от говорящего самого за себя факта природы, что в случае конкретных объектов невозможно — они тут же замолкают, когда мы пытаемся запротоколировать их действие посредством классического эксперимента. Есть ли возможность перенести содержимое кунсткамер в поле художественного высказывания? Тоже нет. Искусство лишает невероятный мир материального содержания, превращая грёзы материи в художественный (культурный, социальный, во всяком случае человеческий) конструкт. Там, где мы имеем дело со сплетнями и слухами, конспирологией, присущей самой реальности, искусство деконтекстуализирует мир, создавая видимость сверхдетерминации экспозиционного пространства, замкнутого на самом себе. Любое вторжение бесстрастности производит разрыв, разрушающий всю серию. Для продолжения серии необходима очередная одержимость, новая страсть, которая позволяет эту серию продлить.
Известны случаи, когда воздействие прибора исчезало при смене оператора, обслуживающего этот прибор. Иными словами, возникает радионический эффект связи оператора и прибора. В этом случае излучение генерируется только тогда, когда и прибор, и оператор взаимодействуют друг с другом. Известны также эффекты «намоленных» лабораторий, когда разработчик неосознанно создает в лаборатории «фантом», который становится главной причиной работы приборов. Все приборы, исправно работающие в этой лаборатории, перестают работать вне «родных стен»[74]
1. Я видел место, где сделаны сенсационные снимки (Гребенников взлетает на своей платформе). Это бетонированная дорожка на задах одного из зданий в Краснообске, рядом с Институтом химизации сельского хозяйства, где работал старшим энтомологом Виктор Степанович. В воскресенье это совершенно безлюдное место, его не видно ни с дороги, ни из окон институтов.
2. На этом месте, на бетонном покрытии остался полевой след в виде пятна диаметром около 3 метров. Оно выявляется с помощью биолокационной съёмки. Именно это просил меня проверить Виктор Степанович во время одного из моих визитов в Новосибирск. Разумеется, перед началом этого эксперимента он ничего не сказал о целях. Да и вообще до этого мы с ним никогда проблему «полётов» не обсуждали. На это были серьёзные причины. Кое-что он мне открыл только после того, как я на дорожке в несколько десятков метров точно выделил место его «стартов»[75]
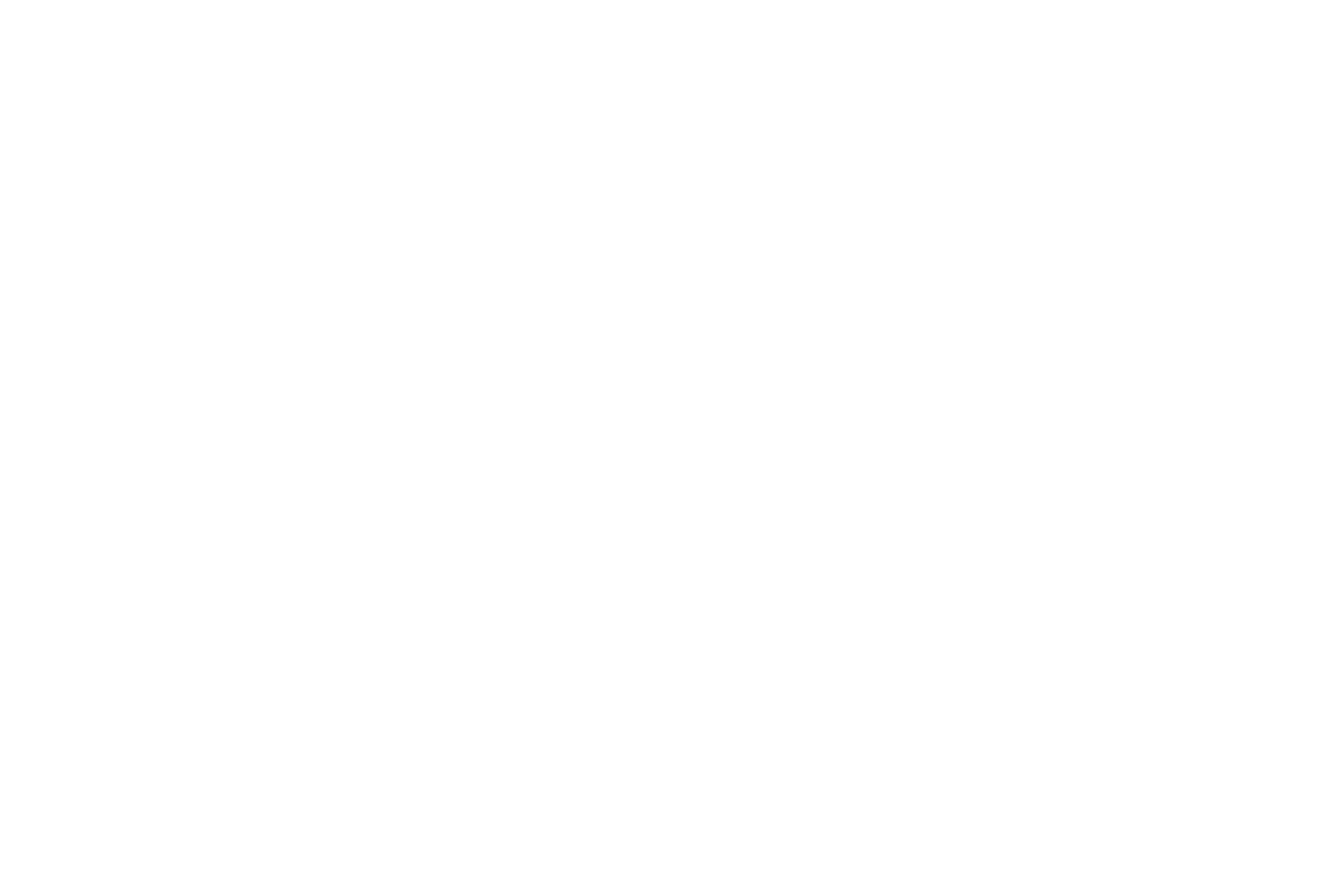
Интуиция. В своём метаантропологическом комментарии к Леруа-Гурану Стиглер в который раз повторяет, что именно «техника (tekhnê) изобретает человека, а не человек изобретает технику»[76]. Сама техника является следствием движения, конституирующего внутреннее и внешнее, где одно является складкой другого и определяется через эту взаимозагибаемость. Для того, чтобы эта схема работала, внешнее и внутреннее, техника и человек должны различаться лишь пространственно, но не сущностно. Если «человек (внутреннее) в своём существе определяется инструментом (внешним)»[77], то либо среда до изобретения техники не является внешней по отношению к человеку, либо техническое начинается в виде экстериоризированного пространства (а не конкретного инструмента), что означает также технику до (изобретения) человека. Первые технические пространства хорошо различимы на фоне неразличимого фона: первые укрытия, засады, пещеры и навесы — первый дом. Однако эти технические пространства свидетельствуют скорее об изобретении тела, а не человечности (и тем более рациональности). Тела, определяемого через техническое пространство, но также пространства, определяемого через тело: любой первый дом тут же смешивается с неразличимой средой, стоит только телу покинуть его. В этой перспективе любой последующий изобретаемый телом инструмент становится формой уплотнения или сжатия пространства до границ конкретного объекта (который, в свою очередь, с этого момента обладает собственной средой, собственным техническим пространством, то есть, в конечном счете, своей собственной способностью к изобретению). И в каждом новом инструменте маячит это странное присутствие оставленности, «фантом» инструментальности без того, что она определяет, но также инструментальность, которой не может воспользоваться никто и ничто, кроме тела, экстериоризацией которого она является.
Ближе к концу XIX века общим местом в критике медиумизма и спиритуализма становится объяснение неординарных явлений через мышечный автоматизм — идеомоторный жест. Инструментальным подтверждением непроизвольных мускульных движений занимались Крукс, Фарадей и другие скептически настроенные ученые[78], однако основные положения и условия опытных испытаний сформулировал Уильям Карпентер. В своей ключевой работе «Mesmerism and Spiritualism historically considered» (1877, хотя концепт восходит к работам 1854 года) на основании идеомоторики опровергаются явления столоверчения, одилизма, биолокации, движения маятников, ясновидения, чтения мыслей[79]. Один из ключевых моментов критики — это (прежде всего зрительная) связь оператора с объектом поиска. При завязывании оператору глаз и размыкании установленной с местом или человеком связи эффект инструментов предсказуемо пропадает: биолокационная рамка крутится как заблагорассудится, маятник даёт ответы невпопад. Основанием этой связи с пространством, в котором предположительно находится искомый объект, выступает интуиция:
Оглядываясь вокруг себя, мы можем сплошь и рядом видеть отдельных личностей, приходящих к известным заключениям путём простой интуиции, которая в некоторых случаях кажется врожденной, в других же случаях — приобретённой опытом; при этом они обыкновенно не могут привести никаких доказательств, никаких соображений в пользу своих заключений и, однако же, последующие события показывают, что их заключения были вполне правильны[80].
Эта интуиция не является следствием рационального анализа связи с пространством, но предшествует его успешному проведению:
...волшебный прут есть лишь особенный способ выражения результатов автоматического процесса этого рода, причём такое выражение имеет здесь место прежде, чем эти результаты достигнуты до ясного умственного сознания[81].
Несложно заметить, что проблема описываемой таким образом интуиции в том, что удостоверить её наличие можно только инструментально, то есть через пресловутый «волшебный прут». Мы не можем проверить, соответствует ли интуиция тому, что о ней говорит её обладатель (как не может и он сам), поэтому примеры с угадыванием расположения объектов (например, подводного течения) без рамки противоречивы — мы должны поверить, что это угадывание действительно интуитивно, а не рационально, но нельзя сделать на этом основании вывод, что результат в случае угадывания и использовании рамки был бы одинаков (нельзя одновременно использовать и не использовать биолокацию). И если мышечная интуиция предшествует знанию и выражается через тело до того, как внутри этого тела появится рациональное обоснование (интуиция на то и интуиция, ей необязательно быть тавтологичной миру), то лучшим и единственным подтверждением её актуализации служит конкретный, незаинтересованный инструмент, который является одновременно как самой интуицией, так и её выражением.
Однако недостаточно было бы сказать, что биолокационная рамка в такой перспективе ограничивается выражением интуиции, ведь в таком случае мы теряем связь с тем, на что сама интуиция направлена. Возвращаясь к опытам Карпентера, если оставить интуицию и «волшебный прут» наедине, эффект биолокации растворяется в промежутке между биосом и локусом. Иначе говоря, эффект конкретного технического объекта наличествует и удостоверяется только в том случае, если интуиция связана с локусом посредством рамки. Но можем ли мы сказать, что сам локус является чем-то внешним по отношению к интуиции? Предшествует ли объект поиска интуиции о нём или возникает вместе с самой интуицией? Если интуиции не обязательно быть тавтологичной миру (сама по себе она не удостоверяет существование чего бы то ни было), то ей также не предшествует ничто из существующего, с чем она могла бы идентифицироваться, поэтому локус интуиции, который удостоверяется биолокационной рамкой, является также экстериоризацией самой интуиции, то есть, в конечном счете, её техническим пространством. Работает ли биолокация? Что, в конце концов, ищет (и находит) биолокационная рамка? Ничего, кроме противоречивой интуиции того, в чьи руки вложен «волшебный прут». Ничего, кроме технической серии, невозможной (мы не можем извлечь техническое представление без разрушения самой серии), но реальной. Ничего, кроме пространства, в котором срабатывает то, что работать не должно.
Первая составляющая — это способ организации пространства игрового музея в качестве пликативного интерфейса. Воссозданные помещения не обеспечивают репрезентацию и сохранение автономности каждого объекта из физических пространств прототипа. Каждый предмет интерьера — обрамленный рисунок насекомого или гравитоплан в цифровом воплощении — становится найденным объектом, а точнее — сборкой таких объектов. Мы можем маневрировать между этими ключевыми точками мира-музея, взаимодействовать с ними как с интерфейсами целого пространства, которое становится произведённым миром — миром Гребенникова, миром супругов Кирлиан. Вместо документальной реконструкции игровая среда обнаруживает потенциал множественности — мира-музея как чувственного опыта, как топологической асинхронности, как предположения о других возможных музеях и мирах.
Вторая составляющая является сюжетным тропом изобретателя-художника, тропом сходства художественных и изобретательских практик. Энтомологические рисунки Виктора Гребенникова одновременно отражают исследовательский интерес к природе, сопоставимый с интересом художников-натуралистов Йориса Хуфнагеля или Альбрехта Дюрера, и романтическое представление о микрокосме животных. Фотографии супругов Кирлиан, задуманные как способ фиксации свечения объектов, а не отражения света от них, не столько следуют за образцами вроде Фигур Лихтенберга, сколько посредством глубоких медиа открывают оригинальный подход к ауратическому как эстетической категории.
Воспроизводство художественных жестов в рамках физического музея приводит к смешению музея и фигуры автора, смешению, которое доводится игровой средой до тотальной инсталляции — микрокосма с предзаданной консистентностью всех составляющих: рисунка жука Polyphylla adspersa, стенда о биологическом травмировании зерновых культур, гравитоплана, полостных структур и ауратической композиции, составленной из изобретений супругов Кирлиан, а также предметов их быта, находящихся в зазоре между подлинником и имитацией.
И наконец почему можно назвать этот цифровой объект «игровой средой», а не реконструкцией или трёхмерной визуализацией? В любом из указанных медиа-специфичных подходов, кроме игрового, мы сталкиваемся исключительно с образом действия музея — архивацией и коллекционированием, хранением и реставрацией, проектированием зрительского внимания и проведением научных исследований, которые в совокупности обеспечивают объекту стабильное существование в качестве признанного музейного экспоната. Игровая среда устраняет позицию организатора и даёт возможность соприкоснуться с открытием Эффекта полостных структур или газоразрядной визуализации, чтобы продолжить практику взаимодействия с миром, чьи атрибуты не поддаются классификации, но развёртывают перспективу содружества с ним ансамбля звуков, свечений, графических изображений и полетов на гравитоплане. Схожим образом, лор творческого (изобретательского) наследия Виктора Гребенникова, а также Семёна и Валентины Кирлиан невозможно просто написать и превратить в нарратив, он может быть собран из игры в музей, биолокационных замеров, озвучания жужжащего и звенящего мира, где каждая новая вариация практики производит отголоски и резонансы, улавливая которые мы можем раскрывать устройство этого мира как художники, кураторы, изобретатели или энтомологи.
Управление: WASD + Mouse
Навигация между помещениями по стрелкам.
Полевая часть, фотограмметрия: Евгений Кучинов, Сергей Кочкуров, Иван Спицын
Геймификация: Иван Спицын
Звуковая среда: Иван Напреенко, Dogs change и Укус собаки (Маяна Насыбуллова, Михаил Аксенов, Степан Качалин)
Аннотация: Сергей Кочкуров
Авторы сердечно благодарят Римму Николаевну Фисечко и Елену Григорьевну Коробову за помощь и содействие в исследовании.