
//Жильбер Симондон / 8 сентября 1953 года, Сент-Этьен
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Майкл Мардер
Элементальные силы и искусство как интенсификация безжизненности[1]
В редакции Клэр Тэнконс данный текст опубликован в издании: Marder M. Elemental Forces: On Art as the Intensification of Lifelessness // Look For Me All Around (edited by Claire Tancons). Sharjah: Sharjah Art Foundation, 2019. P. 319–330. Настоящий перевод выполнен с оригинального текста, любезно предоставленного Майклом Мардером в авторской редакции.
Давно минули те времена, когда искусство было излишним украшением, притягательным, но в конечном счете тщетным. Сегодня, в сумерках мира, даже элементы — вода, земля, воздух, огонь — не появляются перед нами без власти искусства. Какими путями современные художественные практики могут вновь пробудить элементальные силы? Как может конец мира быть началом искусства?
Элементальное и элементарное: между этими почти идентичными прилагательными пролегает необъятное различие.
— Элементальные реалии столь сложны, что ускользают от понимания. Возвышенные, они окутывают наши тела и умы, оберегают наши поселения и угрожают им, направляют наши транспортные средства и пускают их под откос, переплескиваются через узкие рамки сознательного представления, неощутимо просачиваются в наши мысли и легкие, сбивают нас с ног. Их ранние мифические персонификации в гневных божествах, а также их поздние алхимические фигурации предназначены для того, чтобы исследовать смысл природы с достаточным количеством «мяса» на «скелете» ее безымянных ошеломляющих сил, чтобы придать ощутимость (sense) и приписать намерения действиям этих сил, чтобы примириться с ними посредством их минимального рас-познания. Персонификация придает облик безликой динамике и процессам, заменяя далёкое и непостижимое на близкое и знакомое.
— Элементарные вещи настолько просты, что служат строительными блоками для мира и его понимания. Составляя алфавит бытия, они в первую очередь являются уловимыми остатками актов разделения и разложения всего сущего на базовые единицы химии или физики. Способность понимания вмораживает элементы в фиксированный порядок, такой как периодическая таблица Менделеева, которая, пусть и допуская дальнейшие добавления, растет, подобно минералам, лишь за счет аккреции и седиментации. Она придает смысл миру, разбивая вещи на мельчайшие постижимые компоненты, которые, взятые вместе, уже не составляют мира. Строительные блоки современной науки непоправимо разнесены на [состояния] до и после использования: до — они не складываются в единое целое, после — они руины былой действительности.
Элементальное и элементарное: между этими почти идентичными прилагательными пролегает необъятное различие.
— Элементальные реалии столь сложны, что ускользают от понимания. Возвышенные, они окутывают наши тела и умы, оберегают наши поселения и угрожают им, направляют наши транспортные средства и пускают их под откос, переплескиваются через узкие рамки сознательного представления, неощутимо просачиваются в наши мысли и легкие, сбивают нас с ног. Их ранние мифические персонификации в гневных божествах, а также их поздние алхимические фигурации предназначены для того, чтобы исследовать смысл природы с достаточным количеством «мяса» на «скелете» ее безымянных ошеломляющих сил, чтобы придать ощутимость (sense) и приписать намерения действиям этих сил, чтобы примириться с ними посредством их минимального рас-познания. Персонификация придает облик безликой динамике и процессам, заменяя далёкое и непостижимое на близкое и знакомое.
— Элементарные вещи настолько просты, что служат строительными блоками для мира и его понимания. Составляя алфавит бытия, они в первую очередь являются уловимыми остатками актов разделения и разложения всего сущего на базовые единицы химии или физики. Способность понимания вмораживает элементы в фиксированный порядок, такой как периодическая таблица Менделеева, которая, пусть и допуская дальнейшие добавления, растет, подобно минералам, лишь за счет аккреции и седиментации. Она придает смысл миру, разбивая вещи на мельчайшие постижимые компоненты, которые, взятые вместе, уже не составляют мира. Строительные блоки современной науки непоправимо разнесены на [состояния] до и после использования: до — они не складываются в единое целое, после — они руины былой действительности.
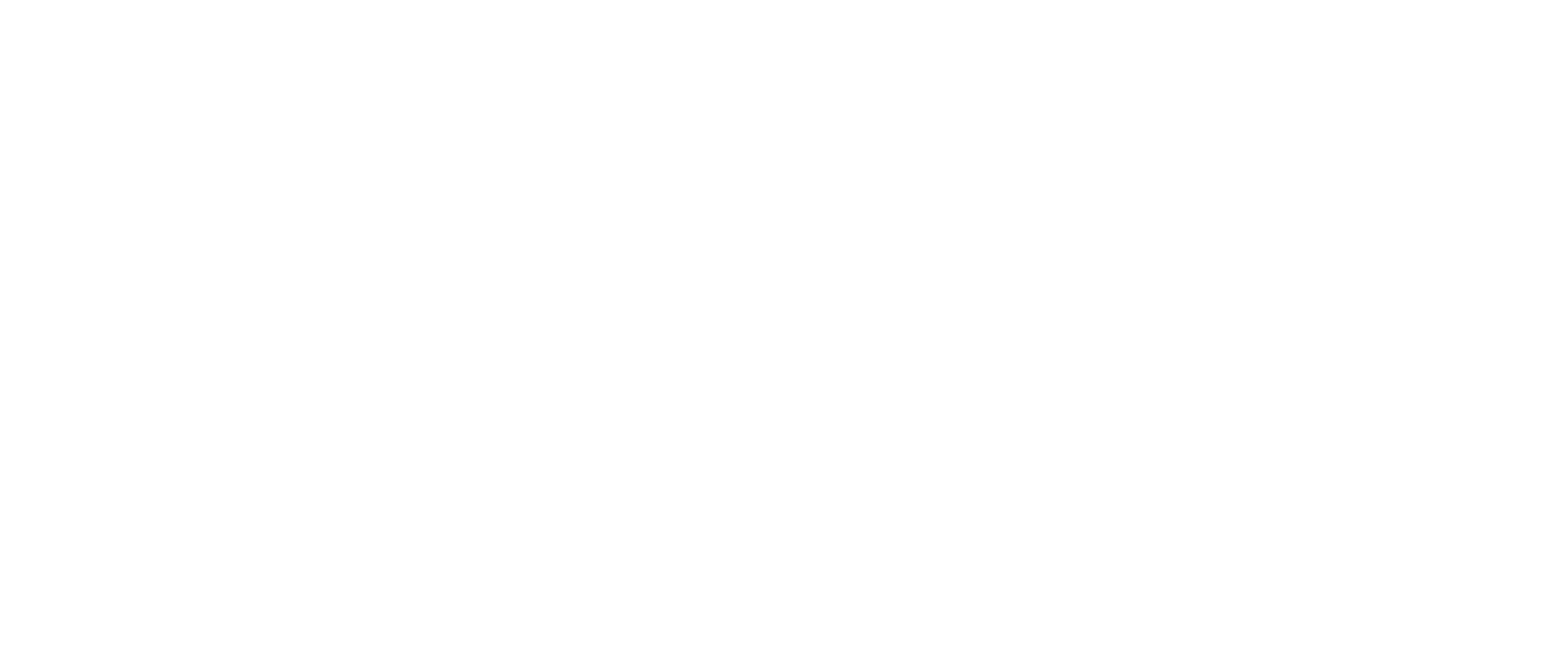
Изменение всего нескольких элементов языка (графемы Л, Р и Ь) указывает на пропасть, которая открывается в самой грамматике существования.
Разделение между элементальным и элементарным не статично. Оно произрастает, разветвляясь из того лингвистического и исторического корня, которым стал весьма предвзятый латинский перевод греческого слова. Когда греческое στοιχεῖον превратилось в латинское elementum, возобладало одно из его исходных значений: «один из ряда», «буква алфавита», «фундаментальный, зачаточный принцип». (В согласных L-M-N, составляющих elementum, угадывается, в конце концов, последовательность букв из середины латинского алфавита.) Такое развитие произошло в ущерб иному значению слова στοιχεῖον, намекающему на безмерную силу классических элементов, таких как огонь, вода, земля, воздух и эфир. Греческое слово по существу противо-речило самому себе, поскольку допускало два или более взаимоисключающих толкования. Повысив ценность удобоваримых аналитических коннотаций, его перевод разрешил это противоречие практически. Пожалуй, мы все еще можем заметить первоначальную двусмысленность в языках, на которые оказал влияние греческий, например, в русском, где стихия означает «неконтролируемые силы природы», а родственное стихийное бедствие указывает на «природную катастрофу», тогда как стихи — это поэтическое произведение или буквально строки текста.
Параллельно семантическому обеднению элементов радикально переориентировался и смысл природы. Вместо греческого φύσις, отсылающего к выходу-на-свет растущего и распускающегося целого, латинское natura поставило все на возведение к истоку и рождение сущностей, которое определяло их характер и конституцию. Природа изменилась — в переводе — в тот момент, когда родилось это слово, парализованное самим событием рождения. Оно собрало воедино остатки активного процесса становления, прервав нескончаемые метаморфозы φύσις. Natura откачивала силы природы из слова и из самой вещи так же эффективно, как elementum лишал στοιχεῖον его возвышенного потенциала.
Между элементальной и элементарной реальностями мы проваливаем встречу с окружающим миром. Элементальные силы превышают наши способности восприятия и познания, оставляя нас завороженными. Дабы компенсировать нехватку проницательности и понимания, мы цепляемся за мифические и драматические маски, которые индивидуализируют элементы, делая их управляемыми. Элементарные схемы избавлены от мистики и всецело рациональны. Они встроены аккурат в пределы нашего познания и восприятия, при условии, что мы будем избирательно слепы по отношению к силам, что действуют на нас, минуя способность противодействия с нашей стороны. В первом случае мы подавлены и неспособны противостоять нашей элементальной среде, во втором — попадаем в идеалистическое затруднение, пытаясь добиться господства над элементами, подготовленными для умственного переваривания, хотя бы лишь на когнитивном уровне, не в действительности. Подчинённые пониманию, элементальные силы продолжают бушевать у нас за спиной, выше и ниже элементарных порогов. Они сотрясают нас, когда мы этого меньше всего ожидаем, во время [стихийных] бедствий и экологических катастроф.
Поэтому не случайно в русской интерпретации греческого στοιχεῖον, необузданная стихия указывает, прежде всего, на природный катаклизм (стихийное бедствие). Для нас «природа», метонимически представленная элементальными силами, это катастрофа. Природа меняется и в этом смысле: ее значение смещается от положения дел по умолчанию, от упорядоченно-ненавязчивого фона человеческого существования — к внезапному непредвидимому крушению всех человеческих планов и намерений. В терминах Фрейда речь идет о возвращении вытесненного, о вздымании сил, которые считались погребёнными, опрокинутыми и взятыми под полный контроль.
Исторически сложившиеся изменения природы — но не в природе — длительны и необратимы. Любая попытка наверстать элементальные силы после их подавления в современности (modernity) вынуждена соперничать с этими изменениями. Путь назад к элементам, которые не являются элементарными кирпичиками реальности, предназначенными для человеческих манипуляций, не может обогнуть историю и руины культур, цивилизаций, экономических, научных и технологических инноваций, которые затронули воздух и землю, воду и огонь. Невозможно вернуться к небесному солнечному пламени, не пройдя через реанимирующее, но [тотчас] несущее смерть массовое сожжение его следов, воплощенных (objectified) в остатках существ, которые жили миллионы лет назад (нефть, уголь, природный газ). Не удастся вернуться к земле, не принимая во внимание истощение почвы, которое является наследием интенсивной агрокультуры и ускоряющейся эрозии, или увеличивающуюся нестабильность, а также воронки, растущие как грибы из-за крупномасштабной индустриальной активности и выработки невозобновляемой энергии. Сегодня элементальный мир доступен нам исключительно через призму его элементарного распада, его теоретического и практического разложения, все более и более отвращающегося от возможности уравновешивающего синтеза.
Независимо от того, пересекаются они, идут параллельно или окказионально схлестываются друг с другом, многие нити «естественной истории» руин не только оставили следы (или даже шрамы) на элементах, но и спровоцировали в них глубокие мутации, изменив до неузнаваемости. Настолько, что сегодня очевидно вопиющее несоответствие между тем, что мы думаем об элементах, и тем, чем они действительно являются — в эпоху, известную как антропоцен. Образ воды, который автоматически формируется в уме человека, слышащего это слово, редко включает в себя пластиковый мусор, ртуть и свинец, колиформные бактерии и нефтяные углеводороды. Когда мы думаем о воздухе, у нас обычно не возникает ассоциаций с диоксидом серы, оксидами азота и тонкодисперсной пылью от лесных пожаров или от предприятий, работающих на ископаемом топливе. В значение почвы, как правило, не включаются тяжелые металлы, фосфаты, неорганические кислоты, пестициды и нитраты, многоядерные ароматические углеводороды, полихлорбифенилы, хлорированные ароматические соединения, детергенты и радионуклиды.
Разделение между элементальным и элементарным не статично. Оно произрастает, разветвляясь из того лингвистического и исторического корня, которым стал весьма предвзятый латинский перевод греческого слова. Когда греческое στοιχεῖον превратилось в латинское elementum, возобладало одно из его исходных значений: «один из ряда», «буква алфавита», «фундаментальный, зачаточный принцип». (В согласных L-M-N, составляющих elementum, угадывается, в конце концов, последовательность букв из середины латинского алфавита.) Такое развитие произошло в ущерб иному значению слова στοιχεῖον, намекающему на безмерную силу классических элементов, таких как огонь, вода, земля, воздух и эфир. Греческое слово по существу противо-речило самому себе, поскольку допускало два или более взаимоисключающих толкования. Повысив ценность удобоваримых аналитических коннотаций, его перевод разрешил это противоречие практически. Пожалуй, мы все еще можем заметить первоначальную двусмысленность в языках, на которые оказал влияние греческий, например, в русском, где стихия означает «неконтролируемые силы природы», а родственное стихийное бедствие указывает на «природную катастрофу», тогда как стихи — это поэтическое произведение или буквально строки текста.
Параллельно семантическому обеднению элементов радикально переориентировался и смысл природы. Вместо греческого φύσις, отсылающего к выходу-на-свет растущего и распускающегося целого, латинское natura поставило все на возведение к истоку и рождение сущностей, которое определяло их характер и конституцию. Природа изменилась — в переводе — в тот момент, когда родилось это слово, парализованное самим событием рождения. Оно собрало воедино остатки активного процесса становления, прервав нескончаемые метаморфозы φύσις. Natura откачивала силы природы из слова и из самой вещи так же эффективно, как elementum лишал στοιχεῖον его возвышенного потенциала.
Между элементальной и элементарной реальностями мы проваливаем встречу с окружающим миром. Элементальные силы превышают наши способности восприятия и познания, оставляя нас завороженными. Дабы компенсировать нехватку проницательности и понимания, мы цепляемся за мифические и драматические маски, которые индивидуализируют элементы, делая их управляемыми. Элементарные схемы избавлены от мистики и всецело рациональны. Они встроены аккурат в пределы нашего познания и восприятия, при условии, что мы будем избирательно слепы по отношению к силам, что действуют на нас, минуя способность противодействия с нашей стороны. В первом случае мы подавлены и неспособны противостоять нашей элементальной среде, во втором — попадаем в идеалистическое затруднение, пытаясь добиться господства над элементами, подготовленными для умственного переваривания, хотя бы лишь на когнитивном уровне, не в действительности. Подчинённые пониманию, элементальные силы продолжают бушевать у нас за спиной, выше и ниже элементарных порогов. Они сотрясают нас, когда мы этого меньше всего ожидаем, во время [стихийных] бедствий и экологических катастроф.
Поэтому не случайно в русской интерпретации греческого στοιχεῖον, необузданная стихия указывает, прежде всего, на природный катаклизм (стихийное бедствие). Для нас «природа», метонимически представленная элементальными силами, это катастрофа. Природа меняется и в этом смысле: ее значение смещается от положения дел по умолчанию, от упорядоченно-ненавязчивого фона человеческого существования — к внезапному непредвидимому крушению всех человеческих планов и намерений. В терминах Фрейда речь идет о возвращении вытесненного, о вздымании сил, которые считались погребёнными, опрокинутыми и взятыми под полный контроль.
Исторически сложившиеся изменения природы — но не в природе — длительны и необратимы. Любая попытка наверстать элементальные силы после их подавления в современности (modernity) вынуждена соперничать с этими изменениями. Путь назад к элементам, которые не являются элементарными кирпичиками реальности, предназначенными для человеческих манипуляций, не может обогнуть историю и руины культур, цивилизаций, экономических, научных и технологических инноваций, которые затронули воздух и землю, воду и огонь. Невозможно вернуться к небесному солнечному пламени, не пройдя через реанимирующее, но [тотчас] несущее смерть массовое сожжение его следов, воплощенных (objectified) в остатках существ, которые жили миллионы лет назад (нефть, уголь, природный газ). Не удастся вернуться к земле, не принимая во внимание истощение почвы, которое является наследием интенсивной агрокультуры и ускоряющейся эрозии, или увеличивающуюся нестабильность, а также воронки, растущие как грибы из-за крупномасштабной индустриальной активности и выработки невозобновляемой энергии. Сегодня элементальный мир доступен нам исключительно через призму его элементарного распада, его теоретического и практического разложения, все более и более отвращающегося от возможности уравновешивающего синтеза.
Независимо от того, пересекаются они, идут параллельно или окказионально схлестываются друг с другом, многие нити «естественной истории» руин не только оставили следы (или даже шрамы) на элементах, но и спровоцировали в них глубокие мутации, изменив до неузнаваемости. Настолько, что сегодня очевидно вопиющее несоответствие между тем, что мы думаем об элементах, и тем, чем они действительно являются — в эпоху, известную как антропоцен. Образ воды, который автоматически формируется в уме человека, слышащего это слово, редко включает в себя пластиковый мусор, ртуть и свинец, колиформные бактерии и нефтяные углеводороды. Когда мы думаем о воздухе, у нас обычно не возникает ассоциаций с диоксидом серы, оксидами азота и тонкодисперсной пылью от лесных пожаров или от предприятий, работающих на ископаемом топливе. В значение почвы, как правило, не включаются тяжелые металлы, фосфаты, неорганические кислоты, пестициды и нитраты, многоядерные ароматические углеводороды, полихлорбифенилы, хлорированные ароматические соединения, детергенты и радионуклиды.
Иными словами, силы элементов больше не могут быть отделены от того, что Маркс называет производительными силами (будь они сугубо аграрными, индустриальными или, как теперь, постиндустриальными), которые сочетают технические средства труда с человеческой рабочей силой, а также от невыразимого опустошения, вызванного этими силами. Вытесненное возвращается с удвоенной силой, с избытком: с водой, которая затапливает прибрежные районы по мере повышения уровня моря, с воздухом, который становится непригодным для дыхания из-за атмосферных выбросов углерода, — все это прошлые проекты многих поколений, жуткое воскрешение давно-усопших форм-жизни в качестве топлива для роста капитала — прибавим к этому непредвиденные экологические последствия от развития [этих проектов].
Все еще марксистский по своему происхождению, основной революционный вопрос «что делать?», наиболее известным образом поставленный Лениным, давит на нас. Если после авантюры модерна уже невозможно восстановить классическую идею элементов и их материальной чистоты (какой бы фиктивной она ни была), то как же на общем фоне опустошения должно выглядеть уникальное человеческое взаимодействие с ними?
Мы должны отбросить иллюзии и ценить элементы такими, какие они есть и какими они стали, то есть в виде огромных свалок промышленных отходов и мусора. Познавательная прямота и эта новая оценка вернут мышление на землю и заставят нас трезво взглянуть на нашу едва пригодную для жизни планету, не попадая в ловушку романтизации «природы», но и не придерживаясь правил ее научной переписи в набор символов — застывших, исчисляемых или вычисляемых, вскрытых для манипулирования в формулах и алгоритмах. Вопреки присвоению земли, поделенной на территории и частные владения, вопреки приватизации компаний и служб водоснабжения, вопреки тому, что все экосистемы и их нечеловеческие обитатели оптом превращаются в запас полезных (или, по крайней мере, пригодных для использования) ресурсов — вопреки всему этому элементы являются общими, циркулируя среди нас как воздух или физически поддерживая нас как земля. Их судьба — часть исторического крушения общностей, коими в лучшем случае пренебрегали, а в худшем — их глубоко оскверняли.
Следующим шагом после признания чрезвычайного положения, которое изменяет элементы, является реализация чрезвычайности в действии. Недостаточно бить набат и посылать сигналы бедствия о вещах, которые мы наблюдаем вокруг, — без сопутствующей вовлеченности и непосредственного ощущения опустошения. По видимости избыточное, субъективное отношение к чрезвычайной экологической ситуации имеет значение: мы должны позволить себе проникнуться, пропитаться, наполниться до краев элементально-индустриальными силами разрушения — если хотим вывести их из укрытия, сделать скрытое явным, помочь чрезвычайности проявиться. Крайне важно обратить возвращение вытесненного элементального в версию анализа, в свою очередь заимствованную из психоаналитического дискурса, которая побуждала бы осколки бессознательного выходить на поверхность в сознательном представлении, дабы быть символизированными и артикулированными. Такой анализ не имеет ничего общего с разбивкой элементов, врученных пониманию в виде, скажем, таблицы. Вместо того чтобы затемнять элементальные реалии, вымещая их из символического поля, взволнованность психо-анализа окружающей средой одушевляет саму сигнификацию ранее вытесненными элементальными силами.
Те, кто принимает на себя удар все нарастающих и усиливающихся наводнений, ураганов, засух, оползней и лесных пожаров, становятся свидетелями чрезвычайности в пассивной роли жертв и выживших. Позволить чрезвычайности дойти до сознания (познания, аффекта, восприятия, представления…) или довести ее до сознания — это эстетическое усилие: одновременно пассивное (наполненное страстью и пафосом, восприимчивое и открытое) и активное (властно преобразующее, воздействующее, возбуждающее и возбужденное). Чтобы восстановить одну силу (не в последнюю очередь силу элементов), необходима другая — та, например, что не стесняется простукивать скрытое хранилище, из которого вытесненные элементальные реалии готовы рвануть и которое уже трещит по швам. Сегодня эта раскрепощающая сила принадлежит искусству.
По сути, я предполагаю, что эстетическая гипермедиация или даже гипердеструкция «природных материалов» — это мост через бездну у нас под ногами, соединяющий, с одной стороны, химический, физический и концептуальный анализ элементов в современной науке и, с другой стороны, их динамизм, который ускользает от сетей фиксированных категорий, концепций, таблиц, таксономий и систем классификации. Искусство могло бы стать катализатором обменных процессов, которые, вопреки впечатлению о безумно быстром темпе нашей жизни, стопорятся в материальном, ментальном, физиологическом и планетарном доменах. Работа с остатками роста и разложения, с останками останков, такими как пепел или пыль, намекает на элементальные силы, выпавшие из современного (modern) схватывания элементов, схватывания, которое вернулось домой с пустыми руками.
Все еще марксистский по своему происхождению, основной революционный вопрос «что делать?», наиболее известным образом поставленный Лениным, давит на нас. Если после авантюры модерна уже невозможно восстановить классическую идею элементов и их материальной чистоты (какой бы фиктивной она ни была), то как же на общем фоне опустошения должно выглядеть уникальное человеческое взаимодействие с ними?
Мы должны отбросить иллюзии и ценить элементы такими, какие они есть и какими они стали, то есть в виде огромных свалок промышленных отходов и мусора. Познавательная прямота и эта новая оценка вернут мышление на землю и заставят нас трезво взглянуть на нашу едва пригодную для жизни планету, не попадая в ловушку романтизации «природы», но и не придерживаясь правил ее научной переписи в набор символов — застывших, исчисляемых или вычисляемых, вскрытых для манипулирования в формулах и алгоритмах. Вопреки присвоению земли, поделенной на территории и частные владения, вопреки приватизации компаний и служб водоснабжения, вопреки тому, что все экосистемы и их нечеловеческие обитатели оптом превращаются в запас полезных (или, по крайней мере, пригодных для использования) ресурсов — вопреки всему этому элементы являются общими, циркулируя среди нас как воздух или физически поддерживая нас как земля. Их судьба — часть исторического крушения общностей, коими в лучшем случае пренебрегали, а в худшем — их глубоко оскверняли.
Следующим шагом после признания чрезвычайного положения, которое изменяет элементы, является реализация чрезвычайности в действии. Недостаточно бить набат и посылать сигналы бедствия о вещах, которые мы наблюдаем вокруг, — без сопутствующей вовлеченности и непосредственного ощущения опустошения. По видимости избыточное, субъективное отношение к чрезвычайной экологической ситуации имеет значение: мы должны позволить себе проникнуться, пропитаться, наполниться до краев элементально-индустриальными силами разрушения — если хотим вывести их из укрытия, сделать скрытое явным, помочь чрезвычайности проявиться. Крайне важно обратить возвращение вытесненного элементального в версию анализа, в свою очередь заимствованную из психоаналитического дискурса, которая побуждала бы осколки бессознательного выходить на поверхность в сознательном представлении, дабы быть символизированными и артикулированными. Такой анализ не имеет ничего общего с разбивкой элементов, врученных пониманию в виде, скажем, таблицы. Вместо того чтобы затемнять элементальные реалии, вымещая их из символического поля, взволнованность психо-анализа окружающей средой одушевляет саму сигнификацию ранее вытесненными элементальными силами.
Те, кто принимает на себя удар все нарастающих и усиливающихся наводнений, ураганов, засух, оползней и лесных пожаров, становятся свидетелями чрезвычайности в пассивной роли жертв и выживших. Позволить чрезвычайности дойти до сознания (познания, аффекта, восприятия, представления…) или довести ее до сознания — это эстетическое усилие: одновременно пассивное (наполненное страстью и пафосом, восприимчивое и открытое) и активное (властно преобразующее, воздействующее, возбуждающее и возбужденное). Чтобы восстановить одну силу (не в последнюю очередь силу элементов), необходима другая — та, например, что не стесняется простукивать скрытое хранилище, из которого вытесненные элементальные реалии готовы рвануть и которое уже трещит по швам. Сегодня эта раскрепощающая сила принадлежит искусству.
По сути, я предполагаю, что эстетическая гипермедиация или даже гипердеструкция «природных материалов» — это мост через бездну у нас под ногами, соединяющий, с одной стороны, химический, физический и концептуальный анализ элементов в современной науке и, с другой стороны, их динамизм, который ускользает от сетей фиксированных категорий, концепций, таблиц, таксономий и систем классификации. Искусство могло бы стать катализатором обменных процессов, которые, вопреки впечатлению о безумно быстром темпе нашей жизни, стопорятся в материальном, ментальном, физиологическом и планетарном доменах. Работа с остатками роста и разложения, с останками останков, такими как пепел или пыль, намекает на элементальные силы, выпавшие из современного (modern) схватывания элементов, схватывания, которое вернулось домой с пустыми руками.
В свете моего предположения возникают три насущных вопроса.
1. Почему бездна? — Потому что нет пути назад к элементальной имманентности, которую человек как человек, вероятно, никогда не испытывал, точно так же, как нет пути вперед к полностью прозрачному и понятному миру, перед лицом которого человек стоял бы в отношении трансцендентности. Мы застряли между продолжающимся стихийным бедствием и поэзией, пассивной жертвенностью и активным творчеством, в равной степени прослеживаемыми до στοιχεῖον. Отклик на экологическую чрезвычайность, которую мы переживаем и которую в действительности укрепляем, — это еще одна чрезвычайность. Вторая, вероятно, уступает по важности первой, но, тем не менее, она является ее источником и развязкой: это кризис места и значения человека. Это значение и это место не принадлежат ни матрице имманентности, ни рамке трансцендентности, вот почему человеческие существа не имеют опоры в бытии и тянут остальное существование вместе с собой в ничто. Короче говоря, бездна — это наше метафизическое безместье (placelessness), наша бездомность, которая, «очеловечивая» планету, делает бездомными ее саму и всех ее обитателей.
2. Почему «гипердеструкция» вместо сохранения и припоминания? — Потому что в настоящее время единственное, что можно сохранить и вспомнить, — это само разрушение, разрушение как таковое. В своей нынешней исторической конфигурации сохранение [лишь] переутверждает разрушение — в той мере, в какой оно практически, материально и аффективно сковывает нас в ностальгической тоске по подобию стабильности, по политическому, экономическому и идеологическому статус-кво, подпитывающему уверенность в том, что не осталось ничего, кроме того, что нам «просто дано», всего, что уничтожается, сжигается на костре глобального выброса энергии или отдано на откуп шестого массового вымирания. Когда силы элементов смешиваются с политико-экономическими силами производства и их смертоносными побочными эффектами, когда статус-кво есть не что иное, как непрерывное изменение, тогда положительные и отрицательные полюса событий, процессов и явлений рассогласованы и становятся едва отличимыми друг от друга. Таким образом, сегодня сохранение и консервация, включая так называемые экологические движения за охрану природы, являются идеологическими прикрытиями разрушения, в то время как гипердеструкция освещает самоуничтожение нашей действительности.
3. Наконец, зачем сосредотачиваться на останках и останках останков? — Потому что это все, что есть, и даже эти остатки бытия быстро превращаются в ничто. Остатки того, что сгорело, выжжено, стерто, порублено, раздавлено, превращено в пыль, сродни элементам, проанализированным в качестве мельчайших строительных блоков в нашей парадигме разрушительного производства (точнее сказать, в парадигме, которая специализируется на производстве разрушения). Они являются материальным зеркалом заднего вида, отражающим одновременно и бурлящую лабораторию идей, преобразовавших элементальные реалии в элементарные частицы, и памятки опустошительных последствий этого преобразования. Механическая, химическая, электрическая и другие силы являются внешними по отношению к материи, которую они разрушают, подталкивая вещи к их концу, клеймя их штампом конечности (finitude), которую они скрывают внутри. Элементальные силы огня, воздуха, воды и земли используются как средства для достижения цели, которая представляет собой безумный рывок к Концу. Инструментальность этого отношения к элементальному, похоже, говорит о том, что человек находится у руля, инициируя весь этот процесс и способствуя его ходу. Но в действительности мы должны распознать себя в элементах, разбитых на мельчайшие частицы, в пыли, в испепеленных останках, стертой бесформенной материи, отработанной биомассе… Именно это признание должно занять место фигуративной проекции человеческой субъективности и персональности на элементальные силы, предшествующей их распаду на элементарные фрагменты.
На жуткой сцене, которую я здесь грубо набросал, художник мог бы появиться как обычный лабораторный работник, извлекающий чувственную сущность (оттенки, текстуры и так далее) из различных материалов, которые лишаются физической целостности. Впрочем, это иллюзия — оптическая и когнитивная. Лаборатория художника, которая раздвигается за пределы мастерской и охватывает то, что осталось от мира, есть место, где махинации безместного человечества разоблачаются посредством их ускорения или замедления, гиперболического подчеркивания того, что уже незримо происходит, или же посредством намеренно анахронической практики с сильным дистанцирующим эффектом. Безусловно, такое воздействие не извлекает внутреннего ядра из нашего века; оно лишь дает нам ощущение того, как беспрецедентное опустошение чувствуется и сквозит, позволяя глобальной чрезвычайности коснуться краев нашего сознания — или заставляя чрезвычайность достичь ее истинного проявления.
Попытки синтезировать различные семантические измерения элементов, скорее всего, окажутся тщетными. Пав жертвами собственного успеха, такие попытки подавят бездну «человеческого удела», которая теперь распахнулась на всю планету. Более того, невозможен синтез между элементальной имманентностью и элементарной трансцендентностью, между складкой и разрезом, сложностью и натужной простотой, силой и ее насильственным забвением. Вместо синтеза нам нужно усугубить логику одной крайности так, чтобы перенестись к другой, чтобы ни одна из крайностей не осталась невредимой, неприкосновенной для стратегической гиперболы перехода в свою противоположность.
Элементальные силы возродятся, снова станут ощутимыми во всей своей ужасающей славе, смешанной с силами экономического производства и разрушения, как только интенсифицируется элементарный распад мира. Искусство — наиболее подходящая лаборатория для этой интенсификации, имеющей место и в действительности. Жизненно важно, чтобы эстетические практики первыми достигли финишной черты; в противном случае для нас и для многих других видов и экосистем будет слишком поздно; поздно для того, чтобы изменения зафиксировались в чьем-либо сознании, чтобы чрезвычайность вступила в силу. Рядом с классическим определением искусства как имитации жизни мы должны поставить другое, относящееся к нашей ситуации: искусство — это интенсификация безжизненности. Задумайтесь на мгновение над этим определением. Оно значит, что искусство как преувеличивает безжизненность, освещая проблесковым огнем самые пустынные уголки нашей эпохи, так и заряжает безжизненное новой интенсивностью — силой, граничащей с жизненностью. Так искусство готовит нас к прыжку от элементарной реальности к элементальной, прыжку, в котором мир сверкает у нас перед глазами. Salto mortale, будто таковое когда-либо было.
1. Почему бездна? — Потому что нет пути назад к элементальной имманентности, которую человек как человек, вероятно, никогда не испытывал, точно так же, как нет пути вперед к полностью прозрачному и понятному миру, перед лицом которого человек стоял бы в отношении трансцендентности. Мы застряли между продолжающимся стихийным бедствием и поэзией, пассивной жертвенностью и активным творчеством, в равной степени прослеживаемыми до στοιχεῖον. Отклик на экологическую чрезвычайность, которую мы переживаем и которую в действительности укрепляем, — это еще одна чрезвычайность. Вторая, вероятно, уступает по важности первой, но, тем не менее, она является ее источником и развязкой: это кризис места и значения человека. Это значение и это место не принадлежат ни матрице имманентности, ни рамке трансцендентности, вот почему человеческие существа не имеют опоры в бытии и тянут остальное существование вместе с собой в ничто. Короче говоря, бездна — это наше метафизическое безместье (placelessness), наша бездомность, которая, «очеловечивая» планету, делает бездомными ее саму и всех ее обитателей.
2. Почему «гипердеструкция» вместо сохранения и припоминания? — Потому что в настоящее время единственное, что можно сохранить и вспомнить, — это само разрушение, разрушение как таковое. В своей нынешней исторической конфигурации сохранение [лишь] переутверждает разрушение — в той мере, в какой оно практически, материально и аффективно сковывает нас в ностальгической тоске по подобию стабильности, по политическому, экономическому и идеологическому статус-кво, подпитывающему уверенность в том, что не осталось ничего, кроме того, что нам «просто дано», всего, что уничтожается, сжигается на костре глобального выброса энергии или отдано на откуп шестого массового вымирания. Когда силы элементов смешиваются с политико-экономическими силами производства и их смертоносными побочными эффектами, когда статус-кво есть не что иное, как непрерывное изменение, тогда положительные и отрицательные полюса событий, процессов и явлений рассогласованы и становятся едва отличимыми друг от друга. Таким образом, сегодня сохранение и консервация, включая так называемые экологические движения за охрану природы, являются идеологическими прикрытиями разрушения, в то время как гипердеструкция освещает самоуничтожение нашей действительности.
3. Наконец, зачем сосредотачиваться на останках и останках останков? — Потому что это все, что есть, и даже эти остатки бытия быстро превращаются в ничто. Остатки того, что сгорело, выжжено, стерто, порублено, раздавлено, превращено в пыль, сродни элементам, проанализированным в качестве мельчайших строительных блоков в нашей парадигме разрушительного производства (точнее сказать, в парадигме, которая специализируется на производстве разрушения). Они являются материальным зеркалом заднего вида, отражающим одновременно и бурлящую лабораторию идей, преобразовавших элементальные реалии в элементарные частицы, и памятки опустошительных последствий этого преобразования. Механическая, химическая, электрическая и другие силы являются внешними по отношению к материи, которую они разрушают, подталкивая вещи к их концу, клеймя их штампом конечности (finitude), которую они скрывают внутри. Элементальные силы огня, воздуха, воды и земли используются как средства для достижения цели, которая представляет собой безумный рывок к Концу. Инструментальность этого отношения к элементальному, похоже, говорит о том, что человек находится у руля, инициируя весь этот процесс и способствуя его ходу. Но в действительности мы должны распознать себя в элементах, разбитых на мельчайшие частицы, в пыли, в испепеленных останках, стертой бесформенной материи, отработанной биомассе… Именно это признание должно занять место фигуративной проекции человеческой субъективности и персональности на элементальные силы, предшествующей их распаду на элементарные фрагменты.
На жуткой сцене, которую я здесь грубо набросал, художник мог бы появиться как обычный лабораторный работник, извлекающий чувственную сущность (оттенки, текстуры и так далее) из различных материалов, которые лишаются физической целостности. Впрочем, это иллюзия — оптическая и когнитивная. Лаборатория художника, которая раздвигается за пределы мастерской и охватывает то, что осталось от мира, есть место, где махинации безместного человечества разоблачаются посредством их ускорения или замедления, гиперболического подчеркивания того, что уже незримо происходит, или же посредством намеренно анахронической практики с сильным дистанцирующим эффектом. Безусловно, такое воздействие не извлекает внутреннего ядра из нашего века; оно лишь дает нам ощущение того, как беспрецедентное опустошение чувствуется и сквозит, позволяя глобальной чрезвычайности коснуться краев нашего сознания — или заставляя чрезвычайность достичь ее истинного проявления.
Попытки синтезировать различные семантические измерения элементов, скорее всего, окажутся тщетными. Пав жертвами собственного успеха, такие попытки подавят бездну «человеческого удела», которая теперь распахнулась на всю планету. Более того, невозможен синтез между элементальной имманентностью и элементарной трансцендентностью, между складкой и разрезом, сложностью и натужной простотой, силой и ее насильственным забвением. Вместо синтеза нам нужно усугубить логику одной крайности так, чтобы перенестись к другой, чтобы ни одна из крайностей не осталась невредимой, неприкосновенной для стратегической гиперболы перехода в свою противоположность.
Элементальные силы возродятся, снова станут ощутимыми во всей своей ужасающей славе, смешанной с силами экономического производства и разрушения, как только интенсифицируется элементарный распад мира. Искусство — наиболее подходящая лаборатория для этой интенсификации, имеющей место и в действительности. Жизненно важно, чтобы эстетические практики первыми достигли финишной черты; в противном случае для нас и для многих других видов и экосистем будет слишком поздно; поздно для того, чтобы изменения зафиксировались в чьем-либо сознании, чтобы чрезвычайность вступила в силу. Рядом с классическим определением искусства как имитации жизни мы должны поставить другое, относящееся к нашей ситуации: искусство — это интенсификация безжизненности. Задумайтесь на мгновение над этим определением. Оно значит, что искусство как преувеличивает безжизненность, освещая проблесковым огнем самые пустынные уголки нашей эпохи, так и заряжает безжизненное новой интенсивностью — силой, граничащей с жизненностью. Так искусство готовит нас к прыжку от элементарной реальности к элементальной, прыжку, в котором мир сверкает у нас перед глазами. Salto mortale, будто таковое когда-либо было.
Перевод с английского: Евгений Кучинов
Sound: tødestriib
Sound: tødestriib

