
//Жильбер Симондон / 8 сентября 1953 года, Сент-Этьен
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Тим Ингольд
О плетении корзины[*]
Перевод выполнен по изданию: Ingold T. On weaving a basket // The Perception of the Environment: Essays on livelihood, dwelling and skill. London; New York: Routledge, 2000. P. 339–348.
Артефакты изготавливаются, организмы растут: на первый взгляд, это различие кажется довольно очевидным. Но, как я попытаюсь показать [...], за ним скрывается ряд весьма проблематичных допущений касательно разума и природы, интериорности и экстериорности, а также генезиса формы. Достаточно рассмотреть артефактность такого предмета обихода, как корзина, чтобы понять, что различие между изготовлением и выращиванием отнюдь не так очевидно, как мы могли бы подумать. В начале [...] я покажу, что причины, по которым корзина опровергает наши представления о природе артефакта, кроются в том, что она сплетена. Если корзина — это артефакт, а артефакты изготавливаются, то плетение должно быть модальностью изготовления. Я же, напротив, хочу выдвинуть предположение, что изготовление следует понимать как модальность плетения. Такая смена акцентов, на мой взгляд, может открыть новую точку зрения не только на плетение корзин в частности, но и на все виды умелых практик формообразования. Но вдобавок она чревата сглаживанием различия между артефактами и живыми существами, которые, оказывается, не так уж сильно отличаются друг от друга.
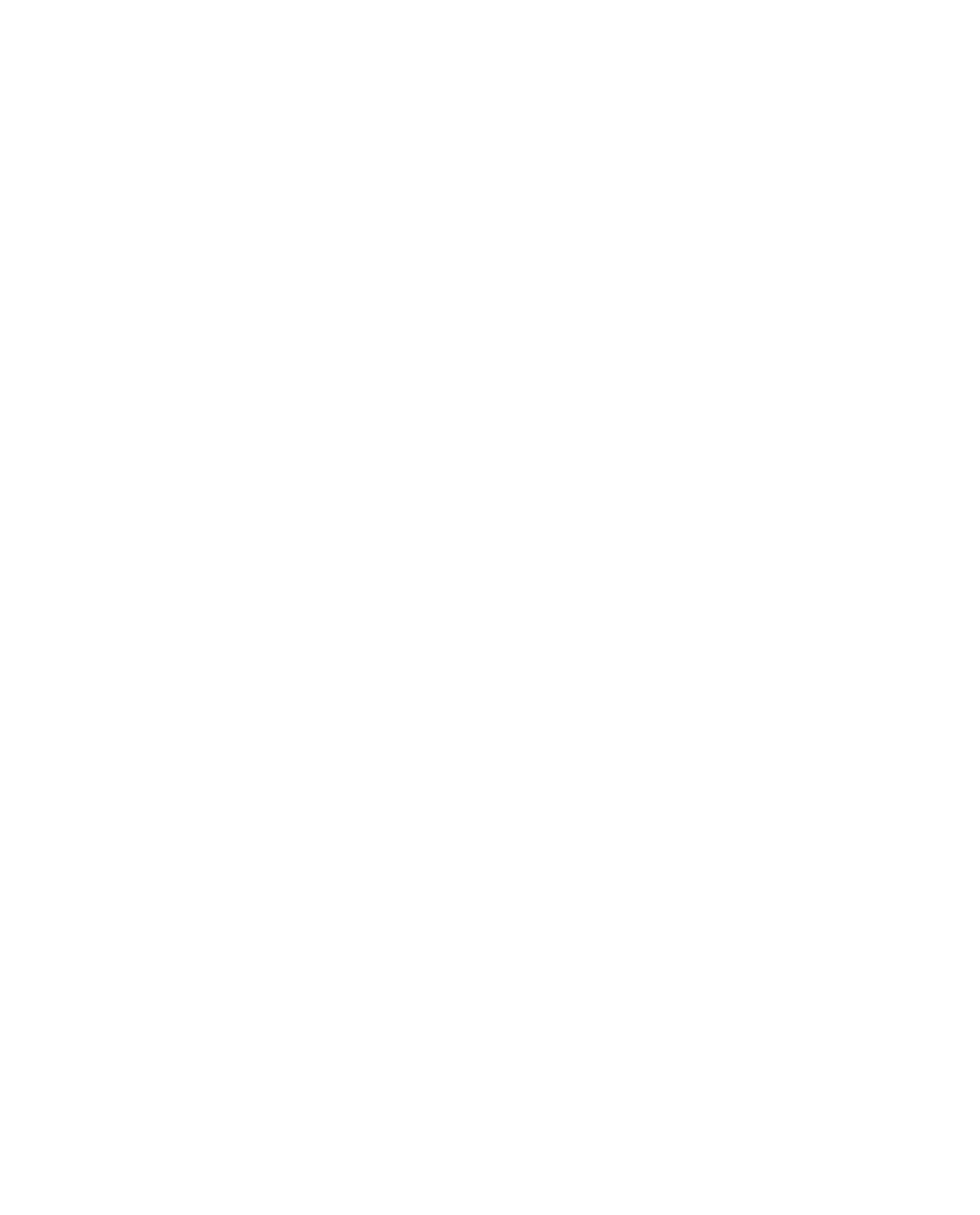
Изготовление и выращивание
Что мы имеем в виду, когда говорим, что артефакты изготавливаются, а не растут? Прежде всего, мы исходим из разделения между формой и субстанцией, то есть между проектными спецификациями объекта и сырыми материалами, из которых он состоит. В случае живых существ предполагается, что информация, специфицирующая проект (design)[1] организма, содержится в наследственных материалах, генах, и, таким образом, каждый новый жизненный цикл начинается с введения этой спецификации в физическую среду. Но в случае артефактов это отношение между формой и субстанцией перевернуто. Считается, что форма накладывается извне, а не раскрывается изнутри. Однако само различие между внутренним и внешним применительно к вещам подразумевает существование поверхности, где твёрдое вещество встречается с пространством действия тех сил, которые на это вещество воздействуют. Таким образом, мир вещества — грубой материи — должен представляться создателю артефактов как поверхность, которую надо преобразовать.
С точки зрения здравого смысла, в практическом плане, это несложно себе представить. Многие из наиболее привычных нам артефактов делаются (или делались — до появления синтетических материалов) из более или менее твёрдого вещества вроде камня, металла, дерева или глины. Как таковая полезность этих объектов зависит от их относительной устойчивости к деформации. Однако сами мы обитаем в газообразной среде — воздухе, который, не обеспечивая такой устойчивости, не только предоставляет полную свободу движения, но и пропускает свет и звук. Помимо очевидного факта, что воздух нужен нам для дыхания, а значит, и просто для поддержания жизни, возможности движения и (визуального и слухового) восприятия, которые предоставляет воздух, крайне важны для любой деятельности, связанной с производством артефактов. Таким образом, существует довольно четкое различие между газообразной средой, которая нас окружает, и твёрдыми объектами, загромождающими наше окружение; более того, паттерны света, отражённого от поверхностей этих объектов, позволяют нам видеть последние такими, какие они есть[2].
Однако в нашем мышлении эти практические соображения слишком легко смешиваются с рассуждениями более метафизического толка. Чтобы показать почему, рассмотрим пример пчелиного улья. Является ли улей артефактом или нет? Разумеется, ульи не растут. В той мере, в какой улей — это результат приложения внешней силы к сырому материалу, он кажется настолько же «пчелотворным» (“bee-made”), насколько человеческий дом — «рукотворным» (“man-made”). Но так ли это? Размышляя над этим вопросом, Карл Маркс, как известно, пришёл к выводу: «...самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове». Другими словами, критерий, по которому дом является поистине искусственным (artificial) — а улей, в отличие от него, лишь фигурально, — заключается в том, что дом возникает из представления или «ментальной модели», которая была создана в воображении строителя до её воплощения в материале. Можно предположить, что пчёлы, напротив, лишены способности к воображению и представляют себе свои ульи не больше, чем собственные тела, поскольку то и другое формируется под генетическим контролем[3].
Здесь экстериорность сил, формирующих артефакты, понимается совсем в другом смысле — не как физическое разделение газообразной среды и твёрдого вещества, а как метафизическое разделение разума и природы. В отличие от форм животных и растений, созданных эволюционным механизмом естественного отбора и генетически встроенных в основу самих организмов (в ядро каждой клетки), формы артефактов якобы возникают в человеческом разуме в качестве заранее представленных интеллектуальных решений конкретных проектных задач. И в то время как органический рост рассматривается как процесс, протекающий внутри природы и служащий для выявления встроенной в неё архитектуры, в изготовлении артефактов разум понимается как то, что накладывает свои идеальные формы на природу. Таким образом, если изготовление означает накладывание концептуальной формы на инертную материю, то поверхность артефакта представляет собой нечто большее, чем границу между твёрдым веществом и газообразной средой; скорее, она становится самой поверхностью материального мира природы в его противостоянии творческому человеческому разуму.
Именно такой взгляд скрывается на задворках сознания антропологов и археологов, когда они говорят об артефактах как о предметах «материальной культуры». Последнее, что они хотят сказать, прибегая к этому выражению, — что в изготовленном объекте области культуры и материальности неким образом пересекаются или смешиваются. Ведь ничто в вещественном составе артефактов ещё не позволяет включить их в культуру. Материалы, из которых они сделаны (дерево, камень, глина или что-то ещё) в любом случае широко распространены в природе. Даже если речь идёт об объектах, изготовленных из синтетических материалов, у которых нет аналогов в природе, присваиваемый этим объектам статус предметов материальной культуры обусловлен вовсе не их «неестественным» составом. Так, пластмассовая детская игрушка не более культурна, чем её деревянный аналог. К культуре относится именно форма артефакта, а не вещество, из которого он сделан. Именно поэтому в обширной археологической и антропологической литературе, посвященной материальной культуре, так мало внимания уделяется самим материалам и их свойствам. Акцент почти полностью делается на вопросах значения и формы — то есть на культуре в противовес материальности. Понятая как сфера дискурса, смысла и ценности, населяющих коллективное сознание, культура мыслится как нечто парящее над материальным миром, но не проникающее в него. Короче говоря, с этой точки зрения культура не смешивается с материалами; скорее, культура окутывает собой вселенную материальных вещей, формируя и преобразуя их внешние поверхности, но никогда не проникая в их интериорность. Таким образом, конкретная поверхность всякого артефакта причастна непроницаемой поверхности самой материальности, окутываемой культурным воображением.
С точки зрения здравого смысла, в практическом плане, это несложно себе представить. Многие из наиболее привычных нам артефактов делаются (или делались — до появления синтетических материалов) из более или менее твёрдого вещества вроде камня, металла, дерева или глины. Как таковая полезность этих объектов зависит от их относительной устойчивости к деформации. Однако сами мы обитаем в газообразной среде — воздухе, который, не обеспечивая такой устойчивости, не только предоставляет полную свободу движения, но и пропускает свет и звук. Помимо очевидного факта, что воздух нужен нам для дыхания, а значит, и просто для поддержания жизни, возможности движения и (визуального и слухового) восприятия, которые предоставляет воздух, крайне важны для любой деятельности, связанной с производством артефактов. Таким образом, существует довольно четкое различие между газообразной средой, которая нас окружает, и твёрдыми объектами, загромождающими наше окружение; более того, паттерны света, отражённого от поверхностей этих объектов, позволяют нам видеть последние такими, какие они есть[2].
Однако в нашем мышлении эти практические соображения слишком легко смешиваются с рассуждениями более метафизического толка. Чтобы показать почему, рассмотрим пример пчелиного улья. Является ли улей артефактом или нет? Разумеется, ульи не растут. В той мере, в какой улей — это результат приложения внешней силы к сырому материалу, он кажется настолько же «пчелотворным» (“bee-made”), насколько человеческий дом — «рукотворным» (“man-made”). Но так ли это? Размышляя над этим вопросом, Карл Маркс, как известно, пришёл к выводу: «...самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове». Другими словами, критерий, по которому дом является поистине искусственным (artificial) — а улей, в отличие от него, лишь фигурально, — заключается в том, что дом возникает из представления или «ментальной модели», которая была создана в воображении строителя до её воплощения в материале. Можно предположить, что пчёлы, напротив, лишены способности к воображению и представляют себе свои ульи не больше, чем собственные тела, поскольку то и другое формируется под генетическим контролем[3].
Здесь экстериорность сил, формирующих артефакты, понимается совсем в другом смысле — не как физическое разделение газообразной среды и твёрдого вещества, а как метафизическое разделение разума и природы. В отличие от форм животных и растений, созданных эволюционным механизмом естественного отбора и генетически встроенных в основу самих организмов (в ядро каждой клетки), формы артефактов якобы возникают в человеческом разуме в качестве заранее представленных интеллектуальных решений конкретных проектных задач. И в то время как органический рост рассматривается как процесс, протекающий внутри природы и служащий для выявления встроенной в неё архитектуры, в изготовлении артефактов разум понимается как то, что накладывает свои идеальные формы на природу. Таким образом, если изготовление означает накладывание концептуальной формы на инертную материю, то поверхность артефакта представляет собой нечто большее, чем границу между твёрдым веществом и газообразной средой; скорее, она становится самой поверхностью материального мира природы в его противостоянии творческому человеческому разуму.
Именно такой взгляд скрывается на задворках сознания антропологов и археологов, когда они говорят об артефактах как о предметах «материальной культуры». Последнее, что они хотят сказать, прибегая к этому выражению, — что в изготовленном объекте области культуры и материальности неким образом пересекаются или смешиваются. Ведь ничто в вещественном составе артефактов ещё не позволяет включить их в культуру. Материалы, из которых они сделаны (дерево, камень, глина или что-то ещё) в любом случае широко распространены в природе. Даже если речь идёт об объектах, изготовленных из синтетических материалов, у которых нет аналогов в природе, присваиваемый этим объектам статус предметов материальной культуры обусловлен вовсе не их «неестественным» составом. Так, пластмассовая детская игрушка не более культурна, чем её деревянный аналог. К культуре относится именно форма артефакта, а не вещество, из которого он сделан. Именно поэтому в обширной археологической и антропологической литературе, посвященной материальной культуре, так мало внимания уделяется самим материалам и их свойствам. Акцент почти полностью делается на вопросах значения и формы — то есть на культуре в противовес материальности. Понятая как сфера дискурса, смысла и ценности, населяющих коллективное сознание, культура мыслится как нечто парящее над материальным миром, но не проникающее в него. Короче говоря, с этой точки зрения культура не смешивается с материалами; скорее, культура окутывает собой вселенную материальных вещей, формируя и преобразуя их внешние поверхности, но никогда не проникая в их интериорность. Таким образом, конкретная поверхность всякого артефакта причастна непроницаемой поверхности самой материальности, окутываемой культурным воображением.
Английское слово design, происходящее от латинского signum («знак») и буквально означающее «от-метка», можно перевести как «замысел», «план», «проект», «цель», «основная структура», «образец» и т. д. (подробнее о семантических оттенках слова design см.: Флюссер В. О положении вещей. Малая философия дизайна / пер. с нем. Т. Зборовской. М.: Ad Marginem, 2016. С. 18 и далее). В контексте развиваемой Т. Ингольдом экоантропологии техники слово design используется для обозначения внутренней схемы, (якобы) предопределяющей генезис организмов и артефактов (в этом смысле design соотносится с аристотелевской идеей формы, morphē). Ниже (в зависимости от контекста) design передается как «дизайн» или «проект». Последний, однако, не стоит путать с другим «проектом» — переводом английского project, которое здесь означает, скорее, «набросок» (с коннотациями хайдеггеровского Entwurf), или «план деятельности», чувствительный к вариациям среды, другими словами — к контингентности. Как объясняет Ингольд (цитируя Стюарта Бранда), «все здания — предсказания; все предсказания неверны» (Ingold T. Being alive: Essays on movement, knowledge and description. London; New York: Routledge, 2011. P. 75). — Примеч. пер.
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / пер. с анг. Т. Сокольской. М.: Прогресс, 1988. С. 43–52.
Ingold T. The architect and the bee: reflections on the work of animals and men // Man (New Series). 1983. Vol. 18. № 1. P. 1–20; ср.: Маркс К. Капитал. Т. 1 / пер. с нем. И.Степанова-Скворцова. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. С. 185.

Поверхность, сила и генерация формы
Рассмотрим самый обычный из предметов быта, встречающийся в удивительно широком диапазоне и разнообразии культур по всему миру: корзину со спиральным плетением. Cоздана ли корзина путём воздействия на поверхность некоего сырого материала? Приложены ли силы, воздействующие на эту поверхность, извне? Служили ли они для того, чтобы отпечатать на материале предсуществующий концептуальный дизайн? Как я покажу ниже, ответом на каждый из этих вопросов будет «не совсем». Таким образом, корзина не «изготовлена» в том смысле, который мы обычно вкладываем в этот термин. Но, очевидно, она и не выросла сама по себе. Стало быть, ни одна из этих альтернатив для корзины не подходит. Она не вписывается в шаблонное представление об артефакте, но не является и формой жизни. Давайте двинемся другим путем, начав с простого замечания: создание корзины представляет собой процесс плетения. Ниже я покажу, что из этого следует, соответственно, в отношении топологии поверхности, приложения силы и генерации формы.
Мы видели, что изготовление — в рамках того, что ниже для удобства я буду называть «стандартной точкой зрения», — предполагает наличие поверхности для последующего преобразования. Так, каменщик обтесывает поверхность камня, плотник режет и строгает поверхность дерева, кузнец ударяет молотом по поверхности раскаленного металла, а гончар воздействует на поверхность глины руками. Но, разрезав и подготовив для плетения свой волокнистый материал, корзинщица ничего не делает с его поверхностью. В процессе плетения поверхность корзины не столько трансформируется, сколько наращивается. Более того, между поверхностью корзины и поверхностями составляющих её волокон нет простого и прямого соответствия. Например, две внешние поверхности поперечно переплетающихся волокон, которые прошивают последовательные петли спирали, попеременно оказываются то «снаружи», то «внутри», если говорить о поверхности самой корзины (см. рис. 1). Действительно, природа плетения как техники такова, что оно производит особый вид поверхности, у которой, строго говоря, вообще нет внутреннего и внешнего.
Мы видели, что изготовление — в рамках того, что ниже для удобства я буду называть «стандартной точкой зрения», — предполагает наличие поверхности для последующего преобразования. Так, каменщик обтесывает поверхность камня, плотник режет и строгает поверхность дерева, кузнец ударяет молотом по поверхности раскаленного металла, а гончар воздействует на поверхность глины руками. Но, разрезав и подготовив для плетения свой волокнистый материал, корзинщица ничего не делает с его поверхностью. В процессе плетения поверхность корзины не столько трансформируется, сколько наращивается. Более того, между поверхностью корзины и поверхностями составляющих её волокон нет простого и прямого соответствия. Например, две внешние поверхности поперечно переплетающихся волокон, которые прошивают последовательные петли спирали, попеременно оказываются то «снаружи», то «внутри», если говорить о поверхности самой корзины (см. рис. 1). Действительно, природа плетения как техники такова, что оно производит особый вид поверхности, у которой, строго говоря, вообще нет внутреннего и внешнего.
Рис. 1
Паттерны оплётки в спиральном корзиноплетении: (1) простая; (2) восьмёркой («навахо»); (3) длинная и короткая («ленивица»); (4) перуанская спираль; (5) прошитая спираль. Из: Hodges H. Artefacts: an introduction to early materials and technology. London: John Baker, 1964. P. 131.
Паттерны оплётки в спиральном корзиноплетении: (1) простая; (2) восьмёркой («навахо»); (3) длинная и короткая («ленивица»); (4) перуанская спираль; (5) прошитая спираль. Из: Hodges H. Artefacts: an introduction to early materials and technology. London: John Baker, 1964. P. 131.

В частном случае спирального корзиноплетения можно усмотреть некоторое сходство с техникой создания формы из глиняных жгутов в гончарном деле. Здесь глина сначала раскатывается в длинные, тонкие, червеобразные полоски, аналогичные плетям связанных волокон, из которых складывается оплёточная спираль. Затем эти полоски скатываются и сворачиваются, образуя дно и стенки сосуда. В этом случае также создается поверхность. Однако в процессе работы исходные поверхности свернутых полосок смешиваются в единую массу и застывают, а финальное разглаживание не оставляет никаких следов того, как сосуд был изготовлен. Но есть и другое, не менее важное отличие, которое подводит меня к вопросу о силе. Гончару, возможно, приходится бороться с силой тяжести (одновременно тяжелый и податливый, его материал склонен к провисанию). Но глина не проявляет никакой самостоятельной силы. Однако в корзиноплетении дело обстоит иначе, поскольку сгибаемые и переплетаемые волокна сами по себе могут оказывать значительное сопротивление. Действительно, корзина стягивается и принимает жесткую форму именно благодаря своей эластичной структуре[4]. Короче говоря, форма корзины — результат игры сил, как внутренних, так и внешних по отношению к материалу, из которого она сделана. Можно сказать, что форма разворачивается в некоем силовом поле, где плетущий вступает во взаимный и весьма напряженный диалог с материалом.
Это подводит меня к последнему вопросу — о генерации формы. Согласно стандартной точке зрения, форма предсуществует в голове производителя и просто внедряется в материал. Я не отрицаю, что корзинщица может начать работу, имея довольно чёткое представление о форме, которую хочет создать. Однако актуальная, конкретная форма корзины не вытекает из этого представления. Она скорее возникает в ходе постепенного разворачивания поля сил, созданного путем активного и чувственного взаимодействия практикующего с материалом. Для материала это поле — не внутреннее, но не является оно таковым и для того, кто с материалом работает (а следовательно, для материала оно и не внешнее); скорее, поле пересекает возникающую между ними поверхность соприкосновения. По сути, форма корзины возникает через паттерн умелого движения, и как раз ритмичное повторение этого движения придает ей регулярность. На это уже давно обратил внимание Франц Боас в своей классической работе «Первобытное искусство».
Это подводит меня к последнему вопросу — о генерации формы. Согласно стандартной точке зрения, форма предсуществует в голове производителя и просто внедряется в материал. Я не отрицаю, что корзинщица может начать работу, имея довольно чёткое представление о форме, которую хочет создать. Однако актуальная, конкретная форма корзины не вытекает из этого представления. Она скорее возникает в ходе постепенного разворачивания поля сил, созданного путем активного и чувственного взаимодействия практикующего с материалом. Для материала это поле — не внутреннее, но не является оно таковым и для того, кто с материалом работает (а следовательно, для материала оно и не внешнее); скорее, поле пересекает возникающую между ними поверхность соприкосновения. По сути, форма корзины возникает через паттерн умелого движения, и как раз ритмичное повторение этого движения придает ей регулярность. На это уже давно обратил внимание Франц Боас в своей классической работе «Первобытное искусство».
Воспользовавшись архитектурным термином, можно сказать, что связность корзины основана на принципе тенсегрити, согласно которому механическая устойчивость системы обеспечивается путем балансировки противодействующих сил сжатия и растяжения по всей структуре. Важно, что структуры тенсегрити характерны как для артефактов, так и для живых организмов, и встречаются у последних на всех уровнях — от архитектуры цитоскелета клетки до костей, мышц, сухожилий и связок всего тела (Ingber D. E. The architecture of life // Scientific American. 1998. Vol. 278. Iss. 1. P. 30–39).
Корзинщица, изготавливающая корзину со спиральным плетением, обрабатывает волокна, составляющие спираль, таким образом, чтобы добиться наибольшей равномерности диаметра спирали... При выполнении швов автоматическое регулирование левой рукой, укладывающей спираль, и правой, протягивающей через спираль связующие стежки, приводит к тому, что расстояния между стежками и сила натяжения становятся абсолютно равномерными, так что поверхность получается гладкой и равномерно округлой, а стежки образуют совершенно регулярный узор
[5]
[5]
Boas F. Primitive art. New York: Dover Publications, 1955. P. 20.
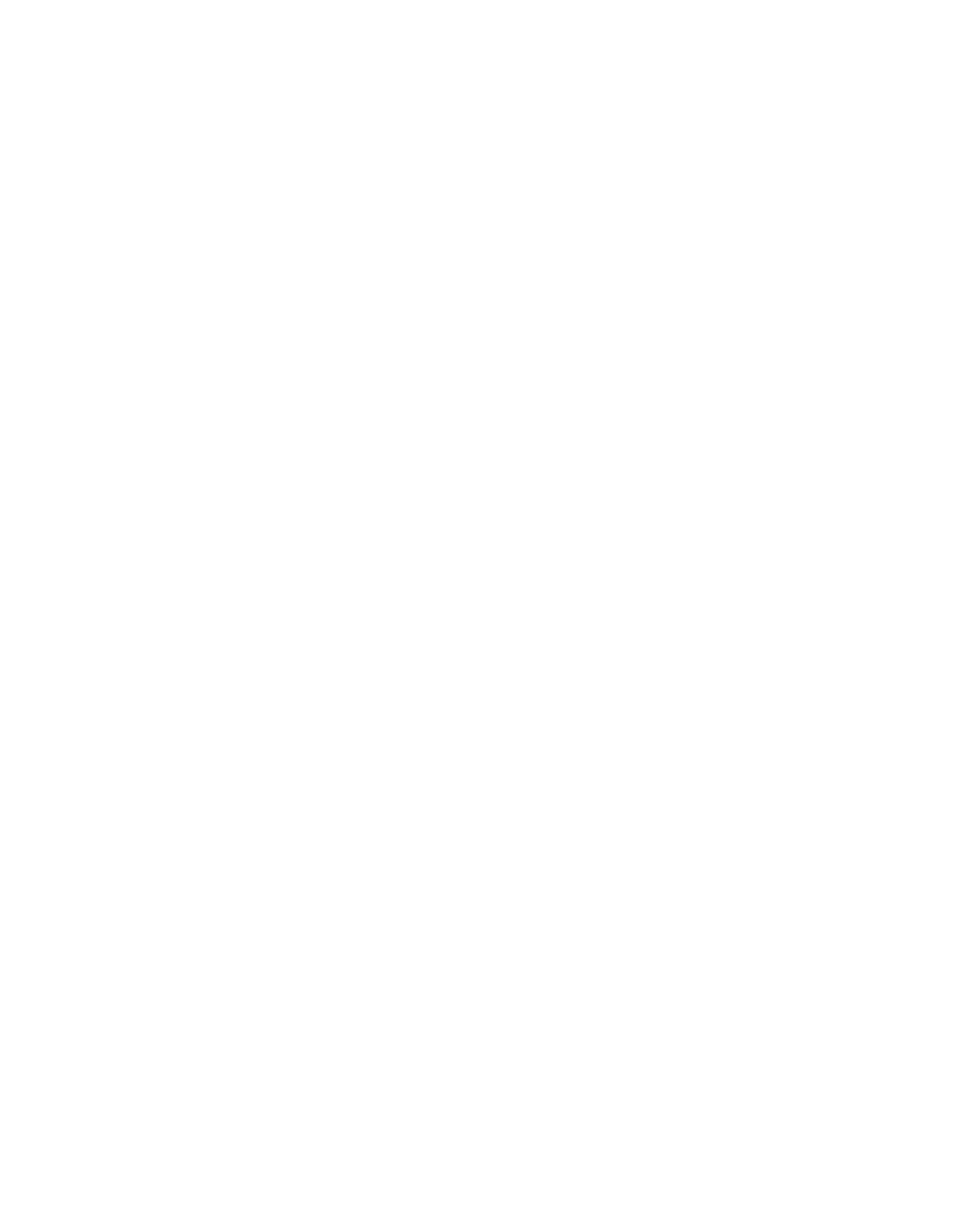
Спирали в природе и искусстве
Боас иллюстрирует этот момент рисунком, который я здесь привожу (рис. 2A). Напротив него я поместил другой рисунок, взятый уже из работы великого биолога Д’Арси Вентворта Томпсона «О росте и форме» (рис. 2В). На нём изображена раковина определённого вида брюхоногих моллюсков. Хотя и корзина со спиральным плетением, и раковина имеют характерную спиралевидную форму, это спирали разного типа: первая — равномерная, вторая — логарифмическая (то есть радиус каждого последующего витка в одном случае возрастает в арифметической прогрессии, а в другом — в геометрической). Равномерная спираль, как объясняет Томпсон, характерна для искусственных форм, полученных путём механического сгибания, сворачивания или скручивания материала заданной длины, в то время как логарифмическая спираль обычно возникает в природе в результате роста путём осаждения, когда материал кумулятивно наслаивается на один конец, сохраняя при этом общее постоянство пропорций[6]. Однако в обоих случаях форма, судя по всему, возникает с определённой логической неизбежностью из самого процесса — сворачивания в первом случае и наслаивания во втором.
Thompson D. W. On growth and form. Cambridge: Cambridge University Press, 1961. P. 178–179.
Рис. 2
Искусственные и природные спирали:
(A) спиральное корзиноплетение. Из: Boas F. Primitive art. Dover Publications, 1955. P. 20.
(B) Раковина брюхоногого моллюска. Угол, известный как «угол спирали», в данном случае велик. Из: Thompson D. W. On growth and form. Cambridge: Cambridge University Press, 1961. P. 192.
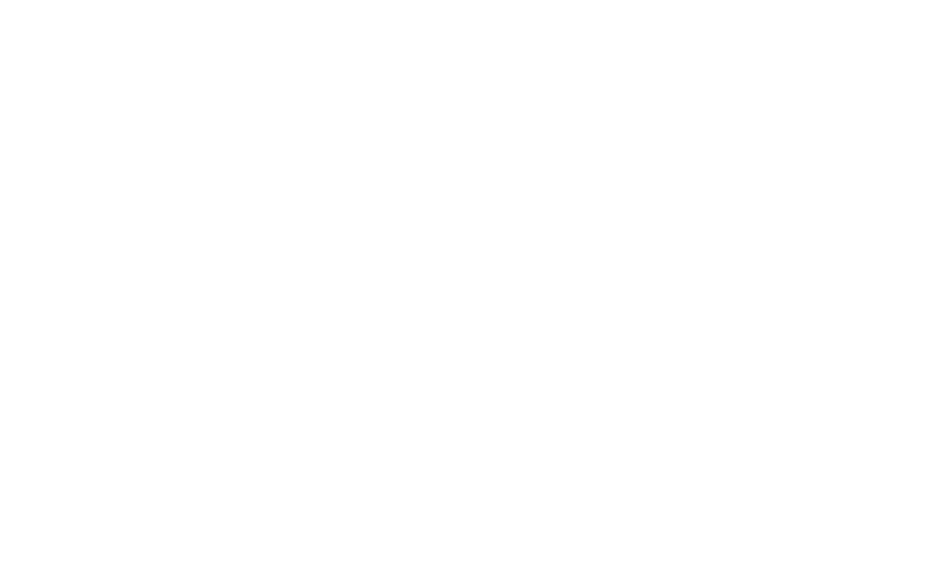
При изучении организмов, равно как и артефактов, чрезвычайно распространено допущение, что ставить вопрос о форме вещей — значит спрашивать о дизайне, как если бы последний содержал в себе полную спецификацию, которую нужно лишь «выписать» в материале. Это допущение является ключевым для стандартной точки зрения, исходя из которой, как мы уже видели, проводится различие между живым и искусственным по критерию интериорности или экстериорности проектной спецификации, управляющей их производством, и при этом не подвергается сомнению предпосылка, согласно которой окончательные формы в действительности задаются независимо от процессов роста или производства, в которых они реализуются, и до этих процессов. Так, предполагается, что базовая архитектура организма уже заложена — в качестве генетической «схемы» — с самого момента зачатия; и точно так же предполагается, что артефакт предсуществует — полностью представленный в виде «виртуального объекта» в сознании — ещё до того, как приложено малейшее усилие к его созданию. В обоих случаях актуализация формы сводится к простому вопросу механической транскрипции: вся творческая работа уже сделана заранее, будь то естественным отбором или человеческим разумом[7].
Как же тогда, исходя из этой предпосылки, можно объяснить образование спиралей в природе и в искусстве, в раковине брюхоногого моллюска и в спирали корзины? Скорее всего, объяснение будет строиться по следующей схеме: форма раковины внутренне задана в генетическом наследии брюхоногого моллюска и раскрывается в процессе его роста; форма корзины задана извне в разуме плетущего: она составляет часть усвоенного культурного наследия и раскрывается в процессе производства корзины. Естественный отбор, согласно дарвиновской ортодоксии, создает (designs) организмы, приспособленные к конкретным условиям жизни, и, как предполагают многие ученые, аналогичный процесс слепой вариации и избирательного сохранения, протекающий на арене культурных идей, может так же заявлять о себе в создании артефактов, отвечающих своему назначению. То, что мы встречаемся со спиралями в росте живых существ (как у брюхоногих), а также в изготовлении артефактов (как в корзиноплетении), может быть чистой случайностью, а может быть и результатом своего рода адаптивной конвергенции — естественного отбора и человеческого интеллекта, действующих совершенно независимо и приходящих к параллельным решениям того, что имеет сущностное сходство с проблемой инженерного проектирования (engineering design). Точнее говоря, если решение требует спирали равномерного или, наоборот, логарифмического типа, то это мы и обнаружим в полученных формах, независимо от того, закодирован сам проект генетически или культурно. Стало быть, с этой точки зрения, различие между равномерными и логарифмическими спиралями само по себе не будет критерием органичности или артефактности рассматриваемых объектов.
Как же тогда, исходя из этой предпосылки, можно объяснить образование спиралей в природе и в искусстве, в раковине брюхоногого моллюска и в спирали корзины? Скорее всего, объяснение будет строиться по следующей схеме: форма раковины внутренне задана в генетическом наследии брюхоногого моллюска и раскрывается в процессе его роста; форма корзины задана извне в разуме плетущего: она составляет часть усвоенного культурного наследия и раскрывается в процессе производства корзины. Естественный отбор, согласно дарвиновской ортодоксии, создает (designs) организмы, приспособленные к конкретным условиям жизни, и, как предполагают многие ученые, аналогичный процесс слепой вариации и избирательного сохранения, протекающий на арене культурных идей, может так же заявлять о себе в создании артефактов, отвечающих своему назначению. То, что мы встречаемся со спиралями в росте живых существ (как у брюхоногих), а также в изготовлении артефактов (как в корзиноплетении), может быть чистой случайностью, а может быть и результатом своего рода адаптивной конвергенции — естественного отбора и человеческого интеллекта, действующих совершенно независимо и приходящих к параллельным решениям того, что имеет сущностное сходство с проблемой инженерного проектирования (engineering design). Точнее говоря, если решение требует спирали равномерного или, наоборот, логарифмического типа, то это мы и обнаружим в полученных формах, независимо от того, закодирован сам проект генетически или культурно. Стало быть, с этой точки зрения, различие между равномерными и логарифмическими спиралями само по себе не будет критерием органичности или артефактности рассматриваемых объектов.
Эта приоритизация проекта над исполнением указывает на возвышение интеллектуального труда над физическим, что, как [я показал в другом месте] (Ingold T. The Perception of the Environment. P. 312–322), является одним из характерных признаков западного модерна: происходит разделение учёного и техника, инженера и рабочего, архитектора и строителя, автора и секретаря.
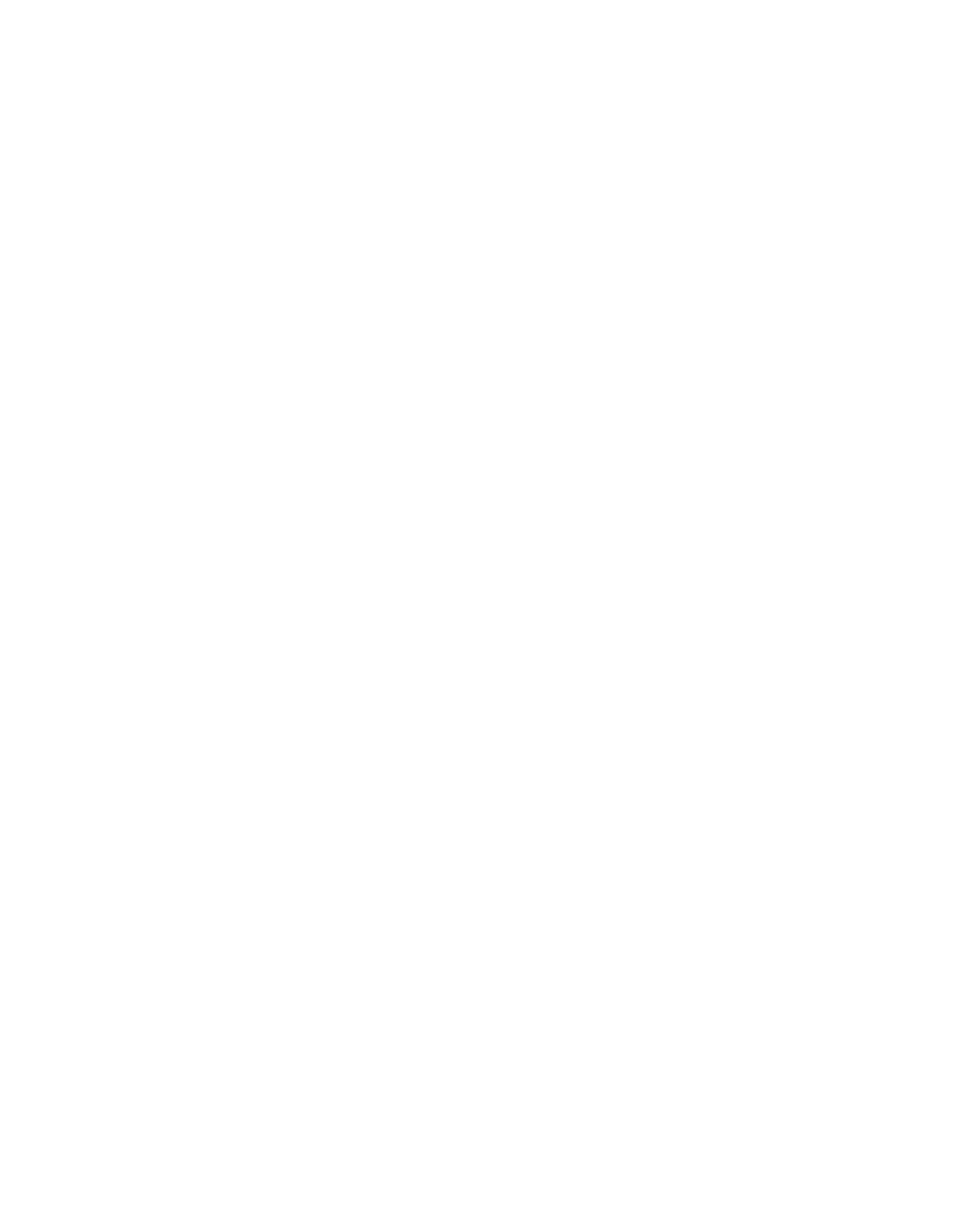
Пределы проекта
Согласно стандартной точке зрения, приведенной выше, форма полностью объяснима исходя из проекта (design), который даёт ей начало. Как только вы объяснили генезис проекта, вы практически полностью объяснили форму. Или нет? Может ли — хотя бы теоретически — какой-либо проект специфицировать форму организма или артефакта полностью? В увлекательном исследовании принципов проектирования, воплощенных в устройстве живых организмов и промышленных артефактов, задуманном как учебник для студентов инженерных специальностей, Майкл Френч[8] размышляет о том, сколько информации потребуется, чтобы специфицировать каждый аспект формы организма. Его вывод заключается в том, что объём информации будет невообразимо велик, намного больше того, что может быть закодировано в ДНК любой известной формы жизни. Но в случае с артефактами ситуация ничуть не отличается. Правда, даже величайшим достижениям человеческого проектирования далеко до самых обычных организмов: так, паровоз, как иронично замечает Френч, «сам по себе прост в сравнении с хитросплетениями лютика»[9]. Но тогда ни один человеческий проект не сможет приблизиться к ДНК генома по своему информационному содержанию. Опять же, полная спецификация, по всей видимости, останется за границами возможного. Короче говоря, формы организмов, равно как и артефактов, похоже, в значительной степени недоопределены лежащими в их основе проектами (blueprints). В таком случае, полагает Френч, нам, вероятно, придётся признать, что очень многие особенности организмов и артефактов чисто случайны, обусловлены стечением обстоятельств, и в этих особенностях раскрываются не сами проекты (designs), а их пределы.
Хотя эта апелляция к случаю призвана усилить аргумент от проекта, защитив его от возражения, что никакая спецификация не может быть исчерпывающей, она является reductio ad absurdum, скорее подчеркивая слабость самого аргумента. Чтобы показать почему, обратимся к другому примеру образования спирали: закручиванию воды при стоке в сливное отверстие ванны. Является ли форма воронки делом случая? Разумеется, она не продиктована спецификациями какого-либо проекта. Можно задать движение спирали слева направо или справа налево, запустив руку в поток воды; вместе с тем, однако, спираль образуется сама собой. Но её образование — отнюдь не случайность. На самом деле оно объясняется хорошо известными принципами гидродинамики.
Пример с воронкой — не мой собственный; он взят из работы биолога Брайана Гудвина[10], который использует его, чтобы сказать нечто очень важное о возникновении спиралевидных форм в живых организмах. У большинства особей определенного вида улиток раковины принимают форму закрученной слева направо, логарифмической спирали, но у некоторых спираль закручивается справа налево. Было показано, что направление закручивания спирали контролируется продуктами конкретного гена, так же как направление спиралевидного закручивания воды в сливном отверстии контролируется целенаправленным движением руки. Но — и это решающий момент — форма раковины не в большей степени является продуктом генетической программы, чем форма воронки — продуктом замысла в вашем сознании. Короче говоря, нет никакого проекта спирали раковины брюхоногого моллюска. Скорее, форма возникает в процессе роста внутри так называемого морфогенетического поля — общей системы отношений, устанавливаемых благодаря присутствию развивающегося организма в окружающей среде. И роль генов в морфогенетическом процессе заключается не в том, чтобы определять форму, пусть даже не полностью, а в том, чтобы задавать параметры — такие как направление закручивания и угол спирали (см. рис. 2В), — в рамках которых она разворачивается[11].
Хотя эта апелляция к случаю призвана усилить аргумент от проекта, защитив его от возражения, что никакая спецификация не может быть исчерпывающей, она является reductio ad absurdum, скорее подчеркивая слабость самого аргумента. Чтобы показать почему, обратимся к другому примеру образования спирали: закручиванию воды при стоке в сливное отверстие ванны. Является ли форма воронки делом случая? Разумеется, она не продиктована спецификациями какого-либо проекта. Можно задать движение спирали слева направо или справа налево, запустив руку в поток воды; вместе с тем, однако, спираль образуется сама собой. Но её образование — отнюдь не случайность. На самом деле оно объясняется хорошо известными принципами гидродинамики.
Пример с воронкой — не мой собственный; он взят из работы биолога Брайана Гудвина[10], который использует его, чтобы сказать нечто очень важное о возникновении спиралевидных форм в живых организмах. У большинства особей определенного вида улиток раковины принимают форму закрученной слева направо, логарифмической спирали, но у некоторых спираль закручивается справа налево. Было показано, что направление закручивания спирали контролируется продуктами конкретного гена, так же как направление спиралевидного закручивания воды в сливном отверстии контролируется целенаправленным движением руки. Но — и это решающий момент — форма раковины не в большей степени является продуктом генетической программы, чем форма воронки — продуктом замысла в вашем сознании. Короче говоря, нет никакого проекта спирали раковины брюхоногого моллюска. Скорее, форма возникает в процессе роста внутри так называемого морфогенетического поля — общей системы отношений, устанавливаемых благодаря присутствию развивающегося организма в окружающей среде. И роль генов в морфогенетическом процессе заключается не в том, чтобы определять форму, пусть даже не полностью, а в том, чтобы задавать параметры — такие как направление закручивания и угол спирали (см. рис. 2В), — в рамках которых она разворачивается[11].
French M. J. Invention and evolution: design in nature and engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 266–267.
Ibid. P. 1.
Goodwin B. C. Biology without Darwinian spectacles // Biologist. 1982. № 29. P. 108–112.
Ibid. P. 111.

О росте артефактов
Возвращаясь от роста организмов к производству артефактов, можно привести аналогичный аргумент. Подобно тому, как органическая форма возникает в процессе разворачивания морфогенетического поля, форма артефакта развивается внутри того, что я назвал полем сил. Оба вида полей пересекают переменчивое сопряжение между объектом (организмом или артефактом) и средой, которая, в случае с артефактом, принципиально включает в себя его «создателя». Если организм взаимодействует с окружающей средой в процессе онтогенетического развития, то артефакт взаимодействует со своим создателем в форме умелой деятельности. Это поистине творческое взаимодействие, в том смысле, что оно действительно даёт начало реальным формам артефактов и организмов, с которыми мы сталкиваемся, а не находится (как утверждают сторонники стандартной точки зрения) под началом отпечатывания предсуществующей формы в сыром материале. Более того, как показывает беглое размышление о примере с закручиванием воды при стоке в сливное отверстие, свойства материалов напрямую участвуют в процессе формообразования. Следовательно, больше невозможно поддерживать различение между формой и веществом, которое, как мы видели, играет центральную роль в стандартной точке зрения на создание вещей. Наконец, шаблоны, меры и практические правила ремесленника или мастера не в большей степени составляют проект производимых им артефактов, чем гены — схему организма. Как и гены, они задают параметры процесса, а не предопределяют форму[12].
Все эти пункты применимы к созданию корзины со спиральным плетением. Так, равномерная форма спирального основания корзины не подчиняется предписаниям какого-либо проекта; она не навязывается материалу, а возникает в самом процессе работы. Действительно, развивающаяся форма выступает в качестве собственного шаблона, поскольку каждый виток спирали выполняется путем укладки продольных волокон вдоль края, образованного предыдущим. Д’Арси Томпсон, конечно, был прав, указывая на различие между двумя путями возникновения формы — сгибанием материала, как в корзиноплетении, и ростом организма, как в случае с раковиной брюхоногого, — и отмечая, что эти пути могут привести к формам с противоположными математическими свойствами. Тем не менее, если разворачивание морфогенетического поля описывается как процесс роста, разве не справедливо будет предположить, что артефакты, чьи формы также развиваются в поле сил, тоже «растут» — хоть и по другим принципам?
Мы могли бы описать этот рост как процесс аутопоэзиса, то есть постепенного самопреобразования системы отношений, в рамках которой возникает организм или артефакт. Поскольку ремесленник вовлечён в ту же систему, что и материал, с которым он работает, его деятельность не преобразует эту систему, а является — подобно росту растений и животных — неотъемлемой частью преобразования системой самой себя. Благодаря этому аутопоэтическому процессу темпоральные ритмы жизни постепенно встраиваются в структурные свойства вещей — или, как выразился Боас, говоря об артефактах:
Все эти пункты применимы к созданию корзины со спиральным плетением. Так, равномерная форма спирального основания корзины не подчиняется предписаниям какого-либо проекта; она не навязывается материалу, а возникает в самом процессе работы. Действительно, развивающаяся форма выступает в качестве собственного шаблона, поскольку каждый виток спирали выполняется путем укладки продольных волокон вдоль края, образованного предыдущим. Д’Арси Томпсон, конечно, был прав, указывая на различие между двумя путями возникновения формы — сгибанием материала, как в корзиноплетении, и ростом организма, как в случае с раковиной брюхоногого, — и отмечая, что эти пути могут привести к формам с противоположными математическими свойствами. Тем не менее, если разворачивание морфогенетического поля описывается как процесс роста, разве не справедливо будет предположить, что артефакты, чьи формы также развиваются в поле сил, тоже «растут» — хоть и по другим принципам?
Мы могли бы описать этот рост как процесс аутопоэзиса, то есть постепенного самопреобразования системы отношений, в рамках которой возникает организм или артефакт. Поскольку ремесленник вовлечён в ту же систему, что и материал, с которым он работает, его деятельность не преобразует эту систему, а является — подобно росту растений и животных — неотъемлемой частью преобразования системой самой себя. Благодаря этому аутопоэтическому процессу темпоральные ритмы жизни постепенно встраиваются в структурные свойства вещей — или, как выразился Боас, говоря об артефактах:
В замечательной статье о строительстве великого Шартрского собора в XIII веке Дэвид Тёрнбулл (Turnbull D. The ad hoc collective work of building Gothic cathedrals with templates, string and geometry // Science, Technology and Human Values. 1993. Vol. 18. № 3. P. 315–340) показывает, что этому великолепнейшему из человеческих артефактов вообще не предшествовал никакой план. Здание приобретало форму постепенно — в течение значительного периода времени — благодаря труду многих групп рабочих с различными навыками, причём действия рабочих были отчасти скоординированы с помощью лекал, струн и конструктивной геометрии.
Ритм времени оказывается здесь переводимым в пространство. При отслаивании, обтёсывании, ковке, при регулярных вращении и надавливании, необходимых для изготовления глиняной посуды, а также при плетении правильность формы и ритмичное повторение одного и того же движения непременно связаны
[13]
[13]
Boas F. Primitive art. P. 40.
Короче говоря, артефакт — это кристаллизация активности в реляционном поле, а правильность его формы воплощает в себе постоянство породившего её движения.
Я хотел бы завершить это сравнение корзины со спиральным плетением и раковины брюхоногого моллюска, прокомментировав причины удивительной долговечности свойственных им форм. Согласно стандартной точке зрения, поскольку форма проистекает из проекта, её постоянство может объясняться только устойчивостью лежащих в основе проекта спецификаций. В случае с организмом эти спецификации являются генетическими, а в случае с артефактом — культурными. Таким образом, постоянство формы — это функция точности, с которой генетическая или культурная информация копируется из поколения в поколение, в сочетании с эффектами естественного отбора — или его аналога в сфере культурных идей, — отсеивающего менее приспособленные варианты.
Однако аргумент, который я здесь предлагаю, совершенно противоположен. Если формы — результат динамических, морфогенетических процессов, то их устойчивость может объясняться генеративными принципами, встроенными в материальные условия их производства. Для раковины это принцип неизменности пропорций, для корзины — принцип, согласно которому всякое приращение продольного удлинения связано с предыдущим посредством поперечного присоединения. В то время как первый принцип путём простой итерации всегда и везде порождает логарифмическую спираль, второй столь же неизменно порождает спираль равномерную. Именно эти генеративные принципы, а не точность генетического или культурного копирования, поддерживают постоянство соответствующих форм и объясняют их устойчивость на протяжении огромных периодов исторического и эволюционного времени.
Я хотел бы завершить это сравнение корзины со спиральным плетением и раковины брюхоногого моллюска, прокомментировав причины удивительной долговечности свойственных им форм. Согласно стандартной точке зрения, поскольку форма проистекает из проекта, её постоянство может объясняться только устойчивостью лежащих в основе проекта спецификаций. В случае с организмом эти спецификации являются генетическими, а в случае с артефактом — культурными. Таким образом, постоянство формы — это функция точности, с которой генетическая или культурная информация копируется из поколения в поколение, в сочетании с эффектами естественного отбора — или его аналога в сфере культурных идей, — отсеивающего менее приспособленные варианты.
Однако аргумент, который я здесь предлагаю, совершенно противоположен. Если формы — результат динамических, морфогенетических процессов, то их устойчивость может объясняться генеративными принципами, встроенными в материальные условия их производства. Для раковины это принцип неизменности пропорций, для корзины — принцип, согласно которому всякое приращение продольного удлинения связано с предыдущим посредством поперечного присоединения. В то время как первый принцип путём простой итерации всегда и везде порождает логарифмическую спираль, второй столь же неизменно порождает спираль равномерную. Именно эти генеративные принципы, а не точность генетического или культурного копирования, поддерживают постоянство соответствующих форм и объясняют их устойчивость на протяжении огромных периодов исторического и эволюционного времени.
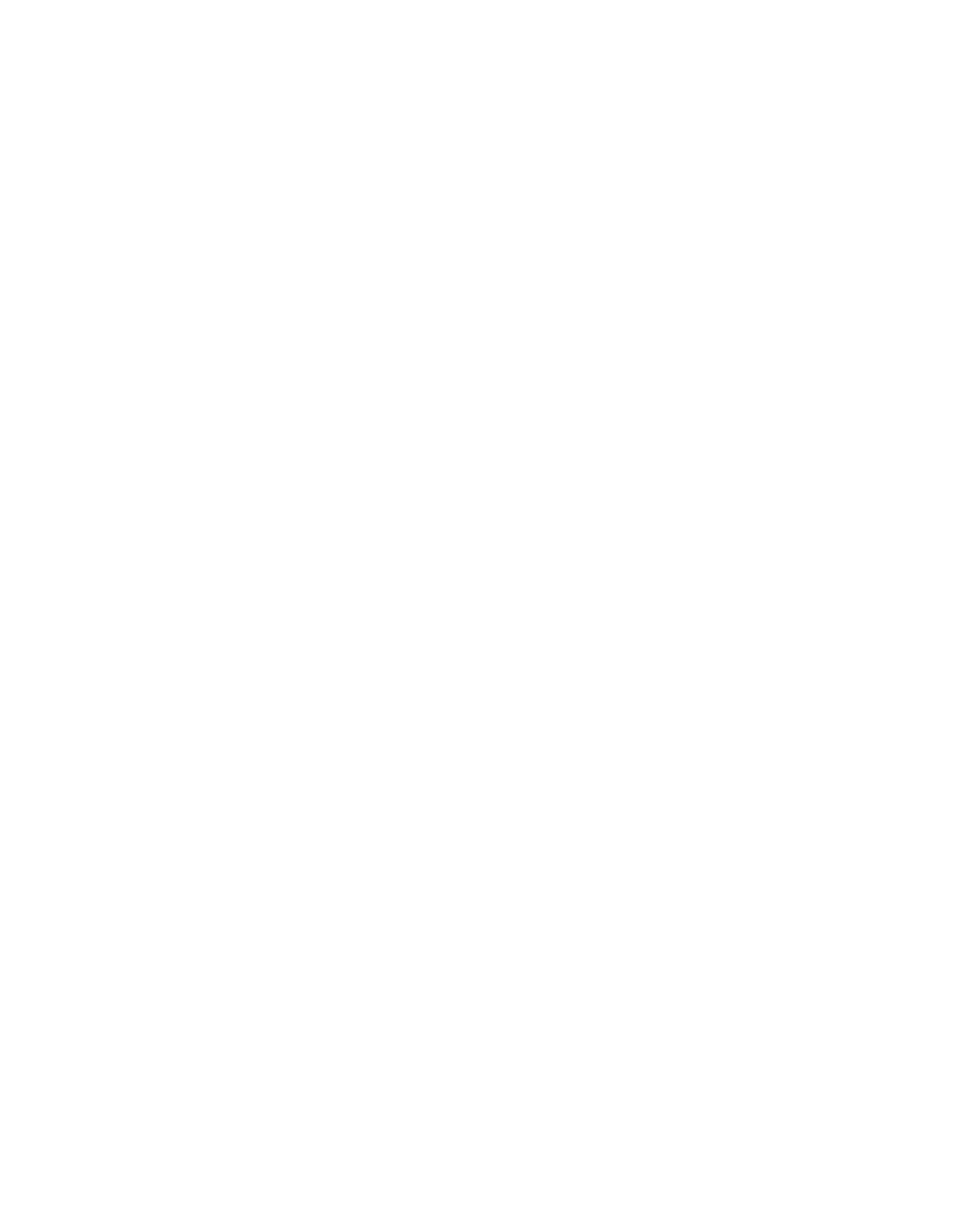
Изготовление как способ плетения
Теперь я возвращаюсь к выдвинутому мной ранее предложению: перевернуть общепринятый порядок приоритетов и рассматривать изготовление как модальность плетения, а не наоборот. Путь в этом направлении намечается одним интригующим наблюдением. Наше слово loom[14] происходит от среднеанглийского lome, первоначально обозначавшего всякого рода орудие или утварь. Разве это не наводит на мысль, что по меньшей мере для наших предшественников такая практика создания поверхностей, как плетение, а не какая бы то ни было другая деятельность, связанная с приложением силы к предсуществующим поверхностям, некоторым образом олицетворяла технические процессы в целом?
Разумеется, понятие изготовления определяет деятельность только с точки зрения её направленности на производство некоторого объекта, тогда как плетение фокусируется на характере процесса, в ходе которого этот объект возникает. Делать акцент на изготовлении — значит рассматривать объект как выражение идеи; делать акцент на плетении — значит рассматривать его как воплощение ритмического движения. Поэтому поменять местами изготовление и плетение — значит также поменять местами идею и движение, увидеть в движении подлинное порождение объекта, а не просто раскрытие объекта, который уже присутствует в идеальной, концептуальной или виртуальной форме до процесса, который его раскрывает. Чем больше объекты отделяются от контекстов жизнедеятельности, в которых они производятся и используются — чем больше они предстают статичными объектами незаинтересованного созерцания (как в музеях и галереях), — тем больше процесс исчезает или скрывается за продуктом, готовым объектом. Как следствие, мы склонны искать смысл объекта в идее, которую он выражает, а не в потоке деятельности, к которому он, строго говоря, исходно принадлежит. Именно такое созерцательное отношение приводит к переименованию обычных предметов быта в предметы «материальной культуры», значение которых заключается не столько в их включении в привычный паттерн использования, сколько в их символической функции. Предлагая перевернуть отношение между изготовлением и плетением, я стремлюсь вернуть эти продукты человеческой деятельности к жизни, то есть к процессам, в которые они, наряду с их пользователями, погружены[15].
Каким же образом плетение олицетворяет техническую деятельность человека? Каков смысл утверждения, что кузнец в своей кузнице или плотник за своим верстаком, преобразуя поверхности металла и дерева соответственно, на самом деле занимаются плетением? Разумеется, принять эту идиому — значит трактовать понятие плетения шире, чем обычно. Однако это помогает обратить внимание на три момента, связанные с умением; эти моменты представлены в корзиноплетении, но, тем не менее, являются общими для практики любого ремесла. Во-первых, практикующий действует в поле сил, возникающем в ходе его или её взаимодействия с материалом; во-вторых, работа не сводится к механическому применению внешней силы, а требует внимательности, рассудительности и ловкости; в-третьих, действие носит повествовательный характер, в том смысле, что всякое движение, как и всякая линия в рассказе, ритмично вырастает из предыдущего и закладывает основу для следующего. […]
Хотя эта широкая трактовка плетения может показаться странной современному западному человеку, она полностью соответствует представлениям йекуана, коренного народа южной Венесуэлы. В своём исследовании корзин и корзиноплетения у йекуана Дэвид Гусс отмечает, что в этом обществе мастер-ремесленник, человек, наделённый исключительной мудростью, «плетёт мир, не только изготавливая корзину, но и во всём, что он делает»[16]. Однако, как показывает Гусс, этот творческий процесс мироплетения не является привилегией экспертов. Скорее, в нём участвуют все йекуана на протяжении всей своей жизни, изготавливая — пусть и с меньшим мастерством — необходимые для традиционного существования орудия. В каждом случае — от строительства домов и каноэ до создания корзин и тёрок для маниока — изготовление рассматривается как способ плетения.
Впрочем, как ни парадоксально, переводя индигенный термин, используемый для отличения таких предметов местного производства от импортных, промышленных «продуктов (stuff)» (таких как жестяные банки и пластиковые вёдра), Гусс называет эти вещи не сплетенными, а изготовленными. Более того, сущность изготовления, с его точки зрения, заключается в наделении предмета метафорическим значением или семиотическим содержанием, так что артефакты становятся зеркалом, в котором люди могут увидеть отражение основ собственной культуры. Символическая сила артефактов, настаивает Гусс, «намного превосходит их функциональную ценность»[17]. Плетение мира, таким образом, оказывается вопросом «создания культуры», подчинения беспорядка природы правилам традиционного проекта.
Нельзя не заметить, что эпистемология, с помощью которой Гусс превращает многообразные продукты мироплетения обратно в «изготовленные вещи» — примеры культурного преобразования природы[18], — является именно той, которую я отвергаю. Как я уже показал, эта эпистемология принимает как данность отделение культурного воображения от материального мира и, таким образом, предполагает на их границе существование поверхности, которую надо преобразовать. Согласно тому, что я назвал стандартной точкой зрения, человеческий разум должен записывать свои проекты на этой поверхности путем механического приложения телесной силы — в случае необходимости дополненной технологией. Я же, напротив, хочу сказать, что формы объектов не навязываются сверху, а вырастают из взаимного участия людей и материалов в окружающей среде. Стало быть, поверхность природы — это иллюзия: кузнец, плотник или гончар — равно как и корзинщик — работают изнутри мира, а не поверх него. Конечно, поверхности существуют, но они разделяют состояния материи, а не отделяют материю от разума[19]. И эти поверхности возникают в процессе формообразования, а не выступают его предварительным условием.
Философ Мартин Хайдеггер выразил ту же мысль, исследуя понятия «строительство» и «жительствование»[20]. В противовес общепринятому модернистскому представлению о том, что жительствование — это деятельность, которая протекает внутри уже построенной среды и этой средой структурируется, Хайдеггер утверждал, что мы не можем заниматься никаким строительством, если уже не живём в нашем окружении. «Только если мы можем жительствовать, — заявлял он, — мы можем строить»[21]. Таким образом, жительствование относится к строительству, в терминах Хайдеггера, так же, как плетение к изготовлению — в моих. Если изготовление (подобно строительству) завершается приданием произведению окончательной формы, то плетение (подобно жительствованию) не прекращается до тех пор, пока продолжается жизнь — прерываясь, но не завершаясь с появлением вещей, которые оно последовательно производит[22]. Короче говоря, жительствование в мире равнозначно постоянному, темпоральному переплетению наших жизней друг с другом и с многообразными составляющими нашего окружения.
Действительно, мир нашего опыта непрерывно и бесконечно возникает вокруг нас по мере того, как мы плетём. Если у него есть поверхность, то она напоминает поверхность корзины: у этой поверхности нет ни «внутреннего», ни «внешнего». Разум не возвышается над природой; скорее, если задаться вопросом, где находится разум, мы обнаружим его в переплетении волокон, составляющих саму поверхность. И как раз в этом переплетении разрабатываются и воплощаются в жизнь наши всевозможные созидательные проекты (projects of making). Только если мы можем плести, мы можем изготавливать.
Разумеется, понятие изготовления определяет деятельность только с точки зрения её направленности на производство некоторого объекта, тогда как плетение фокусируется на характере процесса, в ходе которого этот объект возникает. Делать акцент на изготовлении — значит рассматривать объект как выражение идеи; делать акцент на плетении — значит рассматривать его как воплощение ритмического движения. Поэтому поменять местами изготовление и плетение — значит также поменять местами идею и движение, увидеть в движении подлинное порождение объекта, а не просто раскрытие объекта, который уже присутствует в идеальной, концептуальной или виртуальной форме до процесса, который его раскрывает. Чем больше объекты отделяются от контекстов жизнедеятельности, в которых они производятся и используются — чем больше они предстают статичными объектами незаинтересованного созерцания (как в музеях и галереях), — тем больше процесс исчезает или скрывается за продуктом, готовым объектом. Как следствие, мы склонны искать смысл объекта в идее, которую он выражает, а не в потоке деятельности, к которому он, строго говоря, исходно принадлежит. Именно такое созерцательное отношение приводит к переименованию обычных предметов быта в предметы «материальной культуры», значение которых заключается не столько в их включении в привычный паттерн использования, сколько в их символической функции. Предлагая перевернуть отношение между изготовлением и плетением, я стремлюсь вернуть эти продукты человеческой деятельности к жизни, то есть к процессам, в которые они, наряду с их пользователями, погружены[15].
Каким же образом плетение олицетворяет техническую деятельность человека? Каков смысл утверждения, что кузнец в своей кузнице или плотник за своим верстаком, преобразуя поверхности металла и дерева соответственно, на самом деле занимаются плетением? Разумеется, принять эту идиому — значит трактовать понятие плетения шире, чем обычно. Однако это помогает обратить внимание на три момента, связанные с умением; эти моменты представлены в корзиноплетении, но, тем не менее, являются общими для практики любого ремесла. Во-первых, практикующий действует в поле сил, возникающем в ходе его или её взаимодействия с материалом; во-вторых, работа не сводится к механическому применению внешней силы, а требует внимательности, рассудительности и ловкости; в-третьих, действие носит повествовательный характер, в том смысле, что всякое движение, как и всякая линия в рассказе, ритмично вырастает из предыдущего и закладывает основу для следующего. […]
Хотя эта широкая трактовка плетения может показаться странной современному западному человеку, она полностью соответствует представлениям йекуана, коренного народа южной Венесуэлы. В своём исследовании корзин и корзиноплетения у йекуана Дэвид Гусс отмечает, что в этом обществе мастер-ремесленник, человек, наделённый исключительной мудростью, «плетёт мир, не только изготавливая корзину, но и во всём, что он делает»[16]. Однако, как показывает Гусс, этот творческий процесс мироплетения не является привилегией экспертов. Скорее, в нём участвуют все йекуана на протяжении всей своей жизни, изготавливая — пусть и с меньшим мастерством — необходимые для традиционного существования орудия. В каждом случае — от строительства домов и каноэ до создания корзин и тёрок для маниока — изготовление рассматривается как способ плетения.
Впрочем, как ни парадоксально, переводя индигенный термин, используемый для отличения таких предметов местного производства от импортных, промышленных «продуктов (stuff)» (таких как жестяные банки и пластиковые вёдра), Гусс называет эти вещи не сплетенными, а изготовленными. Более того, сущность изготовления, с его точки зрения, заключается в наделении предмета метафорическим значением или семиотическим содержанием, так что артефакты становятся зеркалом, в котором люди могут увидеть отражение основ собственной культуры. Символическая сила артефактов, настаивает Гусс, «намного превосходит их функциональную ценность»[17]. Плетение мира, таким образом, оказывается вопросом «создания культуры», подчинения беспорядка природы правилам традиционного проекта.
Нельзя не заметить, что эпистемология, с помощью которой Гусс превращает многообразные продукты мироплетения обратно в «изготовленные вещи» — примеры культурного преобразования природы[18], — является именно той, которую я отвергаю. Как я уже показал, эта эпистемология принимает как данность отделение культурного воображения от материального мира и, таким образом, предполагает на их границе существование поверхности, которую надо преобразовать. Согласно тому, что я назвал стандартной точкой зрения, человеческий разум должен записывать свои проекты на этой поверхности путем механического приложения телесной силы — в случае необходимости дополненной технологией. Я же, напротив, хочу сказать, что формы объектов не навязываются сверху, а вырастают из взаимного участия людей и материалов в окружающей среде. Стало быть, поверхность природы — это иллюзия: кузнец, плотник или гончар — равно как и корзинщик — работают изнутри мира, а не поверх него. Конечно, поверхности существуют, но они разделяют состояния материи, а не отделяют материю от разума[19]. И эти поверхности возникают в процессе формообразования, а не выступают его предварительным условием.
Философ Мартин Хайдеггер выразил ту же мысль, исследуя понятия «строительство» и «жительствование»[20]. В противовес общепринятому модернистскому представлению о том, что жительствование — это деятельность, которая протекает внутри уже построенной среды и этой средой структурируется, Хайдеггер утверждал, что мы не можем заниматься никаким строительством, если уже не живём в нашем окружении. «Только если мы можем жительствовать, — заявлял он, — мы можем строить»[21]. Таким образом, жительствование относится к строительству, в терминах Хайдеггера, так же, как плетение к изготовлению — в моих. Если изготовление (подобно строительству) завершается приданием произведению окончательной формы, то плетение (подобно жительствованию) не прекращается до тех пор, пока продолжается жизнь — прерываясь, но не завершаясь с появлением вещей, которые оно последовательно производит[22]. Короче говоря, жительствование в мире равнозначно постоянному, темпоральному переплетению наших жизней друг с другом и с многообразными составляющими нашего окружения.
Действительно, мир нашего опыта непрерывно и бесконечно возникает вокруг нас по мере того, как мы плетём. Если у него есть поверхность, то она напоминает поверхность корзины: у этой поверхности нет ни «внутреннего», ни «внешнего». Разум не возвышается над природой; скорее, если задаться вопросом, где находится разум, мы обнаружим его в переплетении волокон, составляющих саму поверхность. И как раз в этом переплетении разрабатываются и воплощаются в жизнь наши всевозможные созидательные проекты (projects of making). Только если мы можем плести, мы можем изготавливать.
Ткацкий станок, ткачество, оплетка (англ.). — Примеч. пер.
Тем самым я не собираюсь восстанавливать устаревшую оппозицию между практической полезностью и символическим значением. Понятие пользы, предполагаемое этой оппозицией, является обеднённым, оно устанавливает радикальное разделение между действующим субъектом и используемым объектом и сводит умелую практику к чисто механическим отношениям причины и следствия. Говоря о погружении артефактов в жизнедеятельность их пользователей, я, напротив, стремлюсь подчеркнуть неразделимость людей и объектов в реальных контекстах привычной (то есть обычной) практики. Стало быть, практическая значимость объекта заключается не в том, что он обладает полезностью, а в том, что он причастен к привычности повседневной жизни (Gosden C. Social being and time. Oxford: Blackwell, 1994. P. 11).
Guss D. M. To weave and sing: art, symbol and narrative in the South American rain forest. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1989. P. 170, курсив мой — Т. И.
Ibid. P. 70.
Ibid. P. 161.
Подробнее этот момент обсуждается в: Ingold T. The Perception of the Environment. P. 240–241.
См.: Ibid. P. 185–186.
Хайдеггер М. Строительство, жительствование, мышление / пер. с нем. Д. Колесниковой // Журнал Фронтирных Исследований. 2020. № 1. С. 171–172.
У буну, народа из центральной части Нигерии, говорящего на языке йоруба, эта идея выражается в плетении из лоскутов белой ткани: «Ткани часто снимаются [с ткацкого станка] без разрезания, что подчеркивает их бесконечность. Когда, наконец, нетканую основу разрезают, чтобы использовать ткань, остаётся бахрома, что опять же говорит о непрерывности, а не о конечности обрезанных и подшитых краёв» (Renne E. P. Water, spirits and plain white cloth // Man. 1991. Vol. 26. № 4. P. 715).
Перевод с английского: Денис Шалагинов
Манга: 把若気
Манга: 把若気

