
//Жильбер Симондон / 8 сентября 1953 года, Сент-Этьен
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Впечатление неограниченной, безоговорочно подлинной реальности света. Не вещи как субстанция — теряют и вновь обретают реальность вихри отношений: путешествия, свет, солнце; наружность камней, а не их глубинная вещность. Зерно вещей и не вещей.
//Иоганн Теснериус / О природе магнитных явлений
Возьми вместилище из железа, вроде вогнутых стёкол, снаружи украшенное выгравированными узорами не только ради красоты, но также ради легкости, ибо чем легче сосуд, тем легче его можно привести в движение. Но он не должен быть при этом прозрачным, так чтобы можно было бы видеть заключенную в нем тайну.
//editorial core
Денис Шалагинов
Иван Спицын
Евгений Кучинов
Сергей Кочкуров
//mutual aid sq
Владислав Жигалов, Алексей Конаков, Дмитрий Кралечкин,
Егор Гализдра, Иван Аксёнов, Александр Ветушинский, Иван Напреенко, Майкл Мардер, Хилан Бенсусан, Радек Пшедпельский, Арсений Жиляев, Георгий Федоровский, Мэттью Сегалл, Бен Вудард, Тим Ингольд,
Маяна Насыбуллова, Ярослав Михайлов, Алексей Дорофеев, Кендзи Сиратори, Юк Хуэй, Джесси Коэн, Никита Сазонов, Катя Никитина, Аня Родионова, Коля Смирнов, Антон Крафтский, Никита Архипов, Тим Элмо Фейтен, Аня Горская, Джейкоб Блюменфельд, Саша Скалин, Эдвард Сержан, Кирилл Роженцов, Илья Поляков, Артём Морозов,
Дмитрий Скородумов, Илья Гурьянов и другие.
TG / INST / FB / VK
Феликс Гваттари
Могила для Эдипа[*]
Перевод выполнен по изданию: Guattari F. Tombeau pour un Œdipe // Chimères. Revue des schizoanalyses. 1994. N° 21. Félix Guattari. Vol. 1. P. 39–44. Изначально этот текст был опубликован в выпуске № 12 (1972) журнала Change, озаглавленном «Déraison, désir» («Безрассудство, желание»). Затем он был повторно опубликован в первом издании La révolution moléculaire (ed. Recherches, 1977) «в качестве посвящения Люсьену Себагу [1934–1965] и Пьеру Кластру [1934–1977]», в журнале Chimères № 21 (1994) и в переиздании La révolution moléculaire (Les Praries Ordinaires, 2012). Весь текст, кроме последних шести абзацев, можно найти в дневниковой записи Гваттари, датированной июлем 1971 года (Journal 1971 // Nouvelle Revue Française. 2002. № 563).
Понимаешь, старик, смерть... Какая? Та, про которую говорят, сладкая смерть во сне, или смерть «всё кончено, не будем больше об этом»?
Когда мне было шесть или семь лет, каждую ночь повторялся один и тот же кошмар: Дама в чёрном[1]. Она приближалась к кровати. Мне было очень страшно. От этого я просыпался. И не хотел засыпать вновь. А потом мой брат однажды вечером дал мне своё пневматическое ружьё, сказав, чтобы я пальнул по ней, если вернётся. Она больше не возвращалась. Но что больше всего меня удивило, что я хорошо запомнил: (реальное) ружьё я не зарядил.
Всё это расходится сразу в двух направлениях. Слева на сцене[2] — на стороне означаемого — моя тётка Эмилия (сестра отца), чернющее имя, чернющие платья, определённо ужасная зануда… Справа на сцене — на стороне означающего — шкаф (l’armoire), шкаф с зеркалом (l’armoire-miroir), который был напротив моей кровати, в комнате родителей. Ну да, ну да! Шкаф (l’armoire), Дама в черном (la Dame en noire), Дама в муаре (la Dame de moire), чёрное оружие (l’arme noir), полынь (l’armoise), оружие собственного Я (les armes du moi), беды (la mouise) тридцатых годов, мой отец обанкротился, ударившись — при поддержке этой самой тетки Эмилии — в разведение ангорских кроликов: из-за кризиса и плохих продаж кончилось тем, что мы этих кроликов и ели! Папа на грани самоубийства, но ради детей…
Смерть, зеркало. Я, который там и который мог бы там не быть. Я весь да. Я весь нет. Я всё или ничего.
А ещё та история с собакой. Она вцепилась в меня или даже повалила наземь, на галечник прямо перед большим домом на Мэгремоне, у моей двоюродной бабки Жермен — сестры бабушки по маме — прямо перед большой тёмной комнатой на первом этаже, с бильярдом и той штуковиной, которую используют для примерки одежды, жилеток или платьев, и всякого такого: тело без головы, тело, которое можно было бы без толку пырять ножом, на деревянной стойке, с деревянным шариком сверху. Позже я нацепил на него corpse, body. Из словаря с голубой — как «Небесно-голубое»[3] — обложкой. А ещё позже нацепил делёзово Тело без органов.
Зубы, а не жалкие бугорки младенцев, отлучаемых от груди[4].
Я, иначе и не скажешь, что-то, кое-как зацепившееся за обветшавшее воспоминание о Нормандии. Смерть в этом саду. Собачий зуб. Собака на балконе, готовая броситься через ограждение. Собака в ночи. Имя собаки имени отца. Чистый субъект высказывания — хочет сказать мне, что говорит. Собачье когито. И ещё та склизкая собака, которая спускается в конце Los olvidados[5]. Животные, смерти ожившие слова тотемные[6].
Когда мне было шесть или семь лет, каждую ночь повторялся один и тот же кошмар: Дама в чёрном[1]. Она приближалась к кровати. Мне было очень страшно. От этого я просыпался. И не хотел засыпать вновь. А потом мой брат однажды вечером дал мне своё пневматическое ружьё, сказав, чтобы я пальнул по ней, если вернётся. Она больше не возвращалась. Но что больше всего меня удивило, что я хорошо запомнил: (реальное) ружьё я не зарядил.
Всё это расходится сразу в двух направлениях. Слева на сцене[2] — на стороне означаемого — моя тётка Эмилия (сестра отца), чернющее имя, чернющие платья, определённо ужасная зануда… Справа на сцене — на стороне означающего — шкаф (l’armoire), шкаф с зеркалом (l’armoire-miroir), который был напротив моей кровати, в комнате родителей. Ну да, ну да! Шкаф (l’armoire), Дама в черном (la Dame en noire), Дама в муаре (la Dame de moire), чёрное оружие (l’arme noir), полынь (l’armoise), оружие собственного Я (les armes du moi), беды (la mouise) тридцатых годов, мой отец обанкротился, ударившись — при поддержке этой самой тетки Эмилии — в разведение ангорских кроликов: из-за кризиса и плохих продаж кончилось тем, что мы этих кроликов и ели! Папа на грани самоубийства, но ради детей…
Смерть, зеркало. Я, который там и который мог бы там не быть. Я весь да. Я весь нет. Я всё или ничего.
А ещё та история с собакой. Она вцепилась в меня или даже повалила наземь, на галечник прямо перед большим домом на Мэгремоне, у моей двоюродной бабки Жермен — сестры бабушки по маме — прямо перед большой тёмной комнатой на первом этаже, с бильярдом и той штуковиной, которую используют для примерки одежды, жилеток или платьев, и всякого такого: тело без головы, тело, которое можно было бы без толку пырять ножом, на деревянной стойке, с деревянным шариком сверху. Позже я нацепил на него corpse, body. Из словаря с голубой — как «Небесно-голубое»[3] — обложкой. А ещё позже нацепил делёзово Тело без органов.
Зубы, а не жалкие бугорки младенцев, отлучаемых от груди[4].
Я, иначе и не скажешь, что-то, кое-как зацепившееся за обветшавшее воспоминание о Нормандии. Смерть в этом саду. Собачий зуб. Собака на балконе, готовая броситься через ограждение. Собака в ночи. Имя собаки имени отца. Чистый субъект высказывания — хочет сказать мне, что говорит. Собачье когито. И ещё та склизкая собака, которая спускается в конце Los olvidados[5]. Животные, смерти ожившие слова тотемные[6].
Франсуа Досс называет её персонажем одноименного романа Гастона Леру «Духи́ дамы в чёрном» (1908), см.: Досс Ф. Жиль Делёз и Феликс Гваттари. Перекрёстная биография / пер. с фр. И. Кушнарёвой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021. С. 41. — Примеч. пер.
В оригинале: «Du côté jardin... Du côté cour...» (Со стороны сада... Со стороны двора...). В театральном лексиконе этими терминами обозначают стороны сцены, чтобы облегчить коммуникацию между режиссёром и актёрами, смотрящими на сцену с разных сторон, и избежать необходимости уточнений. — Примеч. пер.
Картина Василия Кандинского (1940). — Примеч. пер.
Французское «maigres monts» (жалкие бугорки) омофонично названию «Мэгремон» (маленький холм), состоящему из тех же слов, но в единственном числе. — Примеч. пер.
«Забытые» — фильм Луиса Бюнюэля (1950); см. также его «Смерть в этом саду» (1956) и фильм Вилли Розье «Собаки в ночи» (Les Chiens dans la nuit) (1965). — Примеч. пер.
В оригинале: «Animaux, mots animés totemiques de la mort». Последний слог слова «animaux» («животные») омофоничен слову «mots» («слова»), тогда как «animés» («ожившие» или «одушевлённые») образовано заменой в этом слове при произнесении последней гласной. В самой же фразе «mots animés totemiques de la mort» отчётливо слышится трёхдольный ритм и рифма между «mort» (смерти), «mots» (слова) и «animaux» (животные). — Примеч. пер.
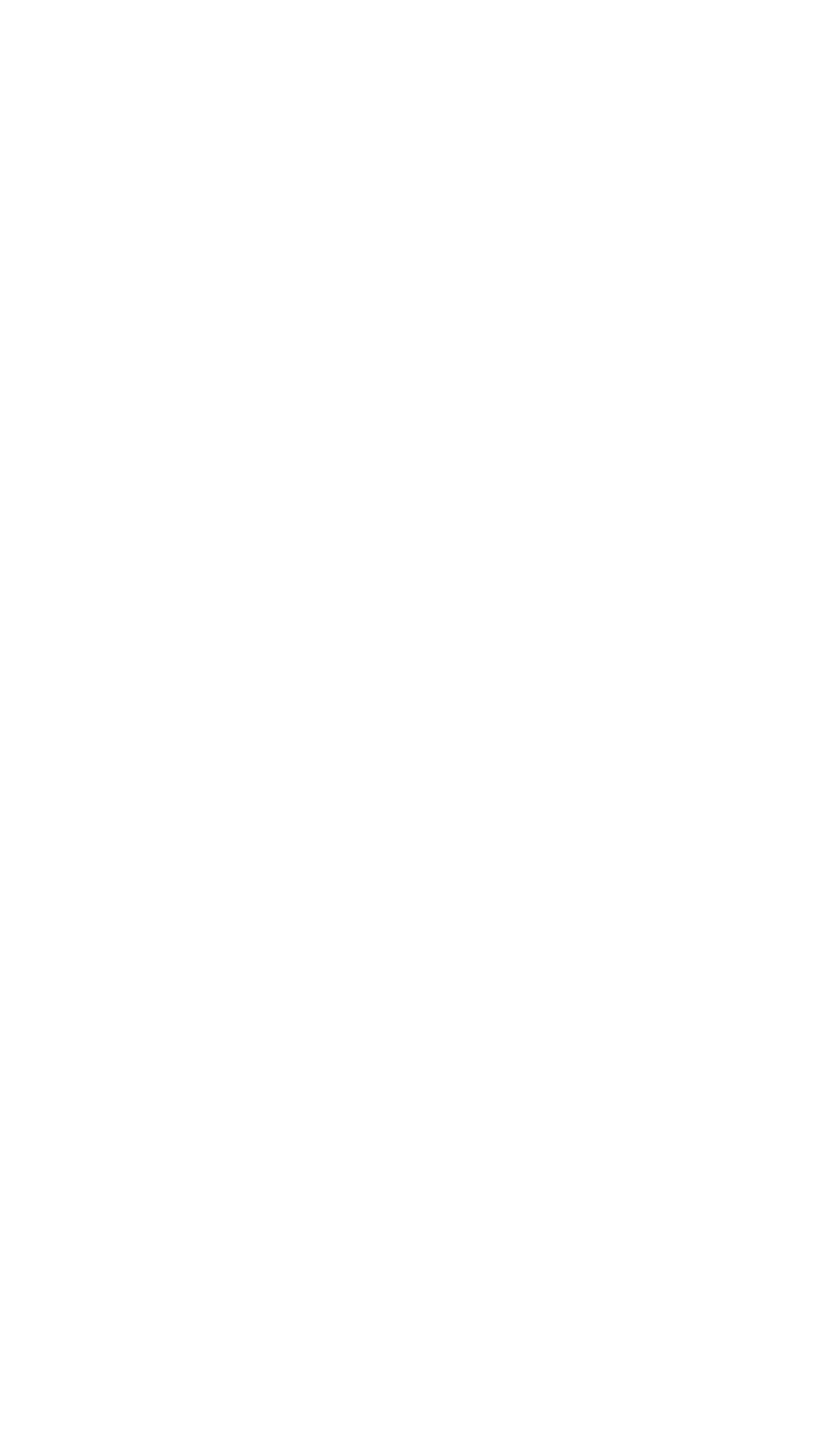
Голубь в саду моего дяди по отцу. Он раздувается, как лягушка. Это орёл. Ружьё моего отца. Исполинский, грозный орёл. Я палю, палю без остановки. Он как манекен. Ему всё ни по чём! Вспоминается тот гигант, по которому без толку лупил Чарли[7]. (Он вcунет его голову в газовый фонарь.) Лишь после многих дней размышлений о тексте этого сновидения я пониманию, что голубь и орёл были на двух концах моего давнего адреса — ностальгия — «рю де л’Эгль, Ла-Гарен-Коломб»[8]. Территориальность детства, давшая дёру на одной стороне. Кем я буду, если я больше не у папы-мамы? Взлетает мёртвая птица. Вот он я. Необратимый отрыв (décollement) влечения к смерти. И на этот раз (воображаемое) ружьё было заряжено.
Конец двусмысленным собакам, огромным кучам собачьего дерьма на гравии. Оставленным собачкой-ничего[9]. Либо орёл, либо голубь. Но не вместе. Да и потом тут, как ни крути, ни ничего, ни ничего. Извращённое манихейство. Лопнувшая родная земля, как яичница моего кузена — по маме — опять же на Мэгремоне, на большой подвальной кухне. Отклеившаяся (décollée) родная земля, как угол клеёнчатой скатерти уже на другой кухне.
Шесть месяцев я пробыл у дяди Шарля, у которого птицы в саду. Ждали его смерти — рак от курения. Думали, что ему осталось всего несколько дней! Впоследствии я никогда в отцовский дом не возвращался.
Зияющая дыра в стене, там, где обычно стояло бы мое пианино: идея полости. За ней: улица, перекрёсток, островок, как тот, который выступает над тротуаром напротив выхода из Мезон де ля Мютюалите. Чуть дальше: большой торговец фортепиано. Там был Л. С., прислонившийся к стене. Было это до или после его самоубийства[10]. Не знаю. Но через эдипову стену он уже прошёл. И действительно там остался! Он всё понимал куда лучше меня! Я же о том и знать не хотел. Внутри — на первом этаже моя мать. На втором, возможно, мой отец. Или, может, он ушёл — уже — неизвестно куда! Как поступил мой дед по отцу — о котором в итоге никто ничего не знал, — но как ему поступать никогда не следовало.
Мама за окошком кассы. Сельское почтовое отделение. Время закрываться. Я едва успел. Или опоздал. Она убирает свои учётные книги. Я настаиваю. Тсс! Она кивком показывает на открытую в черноту дверь справа от неё. Тишина. Ужас. Он не должен услышать. Дверь должна была быть закрыта, со всем покончено сейчас же! Кто это? Определённо мой отец, растянувшийся на смертном одре. Он ждет, чтобы она к нему присоединилась. История с розеткой; лампа сейчас погаснет; всё потеряно. Я едва успеваю заново подключить эту штуковину…
Мне девять, за несколько месяцев до начала войны; я в Нормандии, у бабушки — по маме. Слушаем «штутгартского предателя»: Жана Эроля-Паки[11]… Мой дедушка — по второму браку, — огромный славный добряк, сидит в туалете. Дверь открыта, чтобы он мог слышать радио. У него в ногах моя коробка с вырезками: маленькие бумажные куклы, которым я вырезаю одежду. У дедушки голова опустилась, оперта на колени: руки свесились. Он, что, трогает мои игрушки? Хочу ему что-нибудь крикнуть! Тишина. Я поворачиваю голову, медленно — целую вечность — к огоньку на радиоприемнике. Ужасный грохот. Упал на пол. Бабушка начинает кричать. Кровоизлияние в мозг. Жать на кончики ушей. Звать соседей — один в ночи. Кричать, кричать…
«Хочешь посмотреть на него в последний раз?» Газета на голове. От мух… Газета на банках с вареньем, которые только что наполнила бабушка… От мух.
Труп в верхней части шкафа, там, где обычно стоят банки с вареньем.
Я дал стихотворение, чтобы его положили ему в гроб. «Рифма к слову счастье (bonheur)?» Он сказал мне: «Тебе вместо мёртвый лист (feuille morte) всего-то поставить листья при смерти (les feuilles se meurent)». «Деда, но так не бывает». «Да я те говорю, что бывает!» Я сильно любил его — но надо было спросить у кого-то ещё, потому что, возможно, он не знал. Он был рабочим. Чудак. Забастовщик. В Монсо-ле-Мин[12]. Они дрались. Были погибшие.
Конец двусмысленным собакам, огромным кучам собачьего дерьма на гравии. Оставленным собачкой-ничего[9]. Либо орёл, либо голубь. Но не вместе. Да и потом тут, как ни крути, ни ничего, ни ничего. Извращённое манихейство. Лопнувшая родная земля, как яичница моего кузена — по маме — опять же на Мэгремоне, на большой подвальной кухне. Отклеившаяся (décollée) родная земля, как угол клеёнчатой скатерти уже на другой кухне.
Шесть месяцев я пробыл у дяди Шарля, у которого птицы в саду. Ждали его смерти — рак от курения. Думали, что ему осталось всего несколько дней! Впоследствии я никогда в отцовский дом не возвращался.
Зияющая дыра в стене, там, где обычно стояло бы мое пианино: идея полости. За ней: улица, перекрёсток, островок, как тот, который выступает над тротуаром напротив выхода из Мезон де ля Мютюалите. Чуть дальше: большой торговец фортепиано. Там был Л. С., прислонившийся к стене. Было это до или после его самоубийства[10]. Не знаю. Но через эдипову стену он уже прошёл. И действительно там остался! Он всё понимал куда лучше меня! Я же о том и знать не хотел. Внутри — на первом этаже моя мать. На втором, возможно, мой отец. Или, может, он ушёл — уже — неизвестно куда! Как поступил мой дед по отцу — о котором в итоге никто ничего не знал, — но как ему поступать никогда не следовало.
Мама за окошком кассы. Сельское почтовое отделение. Время закрываться. Я едва успел. Или опоздал. Она убирает свои учётные книги. Я настаиваю. Тсс! Она кивком показывает на открытую в черноту дверь справа от неё. Тишина. Ужас. Он не должен услышать. Дверь должна была быть закрыта, со всем покончено сейчас же! Кто это? Определённо мой отец, растянувшийся на смертном одре. Он ждет, чтобы она к нему присоединилась. История с розеткой; лампа сейчас погаснет; всё потеряно. Я едва успеваю заново подключить эту штуковину…
Мне девять, за несколько месяцев до начала войны; я в Нормандии, у бабушки — по маме. Слушаем «штутгартского предателя»: Жана Эроля-Паки[11]… Мой дедушка — по второму браку, — огромный славный добряк, сидит в туалете. Дверь открыта, чтобы он мог слышать радио. У него в ногах моя коробка с вырезками: маленькие бумажные куклы, которым я вырезаю одежду. У дедушки голова опустилась, оперта на колени: руки свесились. Он, что, трогает мои игрушки? Хочу ему что-нибудь крикнуть! Тишина. Я поворачиваю голову, медленно — целую вечность — к огоньку на радиоприемнике. Ужасный грохот. Упал на пол. Бабушка начинает кричать. Кровоизлияние в мозг. Жать на кончики ушей. Звать соседей — один в ночи. Кричать, кричать…
«Хочешь посмотреть на него в последний раз?» Газета на голове. От мух… Газета на банках с вареньем, которые только что наполнила бабушка… От мух.
Труп в верхней части шкафа, там, где обычно стоят банки с вареньем.
Я дал стихотворение, чтобы его положили ему в гроб. «Рифма к слову счастье (bonheur)?» Он сказал мне: «Тебе вместо мёртвый лист (feuille morte) всего-то поставить листья при смерти (les feuilles se meurent)». «Деда, но так не бывает». «Да я те говорю, что бывает!» Я сильно любил его — но надо было спросить у кого-то ещё, потому что, возможно, он не знал. Он был рабочим. Чудак. Забастовщик. В Монсо-ле-Мин[12]. Они дрались. Были погибшие.
См. фильм Чарли Чаплина «Тихая улица» (1917). — Примеч. пер.
Слова, выделенные курсивом — по-французски «Aigle» и «Colombes», — переводятся как «орёл» и «голуби». — Примеч. пер.
«Собачка-ничего» (toutou rien) по-французски омофонична словам «всё или ничего» (tout ou rien) — Примеч. пер.
В январе 1965 года Люсьен Себаг, этнолог, ученик Леви-Стросса, покончил с собой, выстрелив себе в лицо. На столе он оставил письмо, адресованное Жюдит Лакан, а также номер телефона его подруги, которая приютила его в период депрессии. Вот как Альтюссер рассказывает о том, как на это отреагировал Лакан, у которого Себаг проходил анализ: «Однажды утром, очень рано, кто-то позвонил мне в дверь в Школе. Это был Лакан. Он был в ужасном состоянии, почти неузнаваем. Мне страшно вспоминать, что произошло. Он пришёл рассказать мне о самоубийстве Люсьена Себага, который проходил у него анализ, “до того, как я узнаю об этом через слухи, в которых во всём обвиняется лично он, Лакан”. Лакану пришлось прекратить работу с Себагом, так как он влюбился в его дочь, Жюдит. Он рассказал, что “объездил весь Париж”, объясняя ситуацию всем, с кем мог связаться, чтобы положить конец “обвинениям в убийстве и халатности с его стороны”. Он был полностью охвачен паникой, объясняя, что он не мог больше продолжать анализ Себага после того, как тот влюбился в Жюдит: “Это было невозможно по техническим причинам”. Он рассказал мне, что, тем не менее, продолжал видеть Себага каждый день и даже видел его накануне. Он заверил его, что приедет к нему в любое время дня или ночи, если тот его попросит, и что его мерседес ездит крайне быстро» (цит. по: Roudinesco E. Jacques Lacan: Outline of a life, history of a system of thought / translated by Barbara Bray. NY.: Columbia University Press, 1997. P. 307). — Примеч. пер.
Жан Эроль-Паки (1912–1945) — французский радиожурналист, воевал в Испании на стороне франкистов, вёл на «Радио-Саргосса» вещание на французском языке; наиболее известен прогерманской военной хроникой на «Радио-Париж» при правительстве Виши. «Штутгартским предателем» называли Поля Фердонне, с 1939 г. отвечавшего за французское вещание на «Радио-Штутгарт»; во Франции Фердонне был символом немецкой пропаганды. — Примеч. пер.
Монсо-ле-Мин знаменит забастовками шахтеров (Ф. Досс уточняет, что шахтером был и дедушка Гваттари) на рубеже XIX и XX веков. — Примеч. пер.
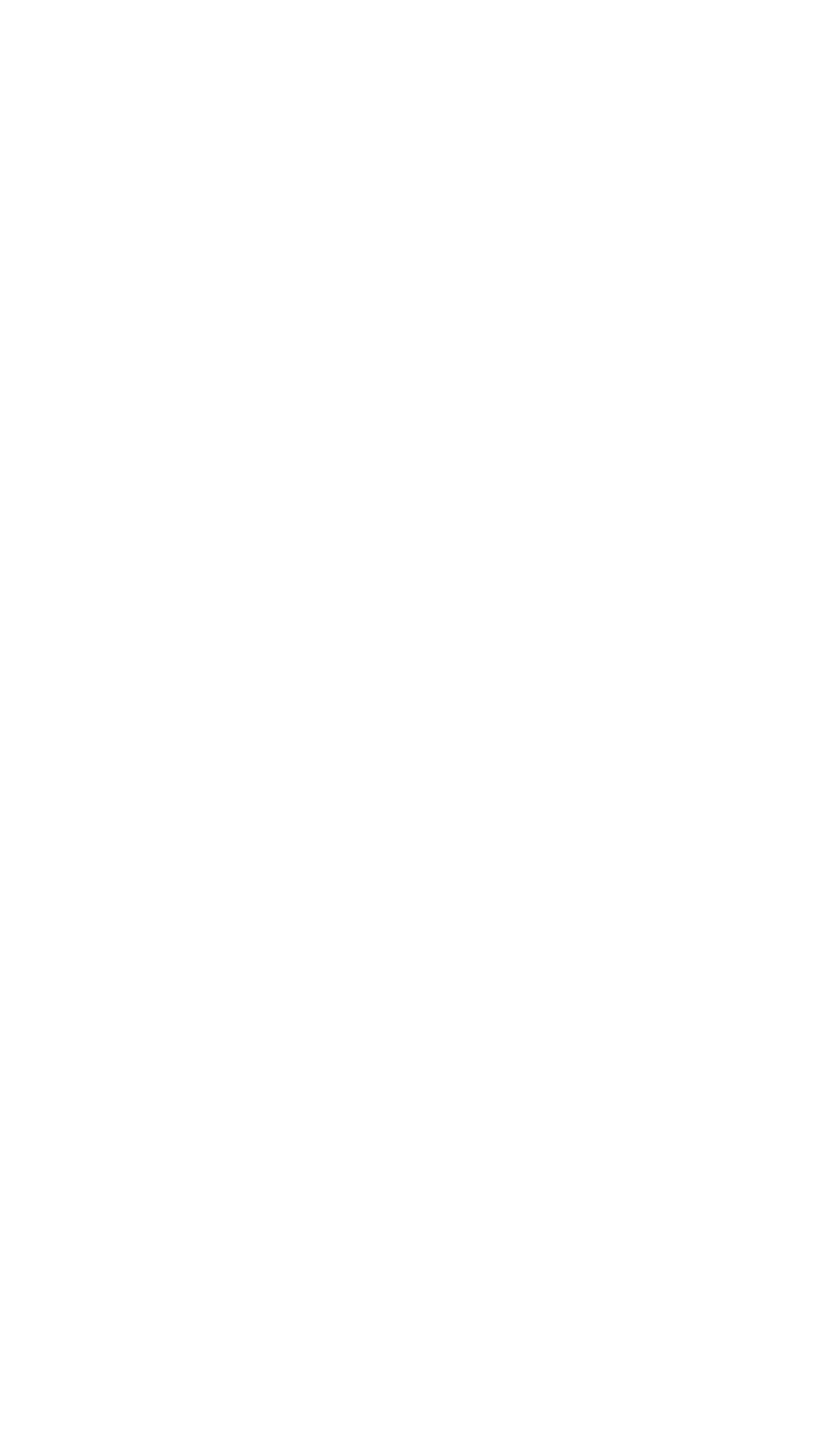
* * *
Приблизиться к самоубийству. Фобический объект. Умереть, чтобы отвратить смерть. Corpse, body, плоть в конвульсиях, чтобы покончить с конечностью (finitude). Смерть на ладони, палец на спусковом крючке (gâchette) — против тысячи других упущений (gâchis). Закрыть крышку. Спустить воду. Воля к бессилию[13].
Одна пуля в рот, другая в сердце. А всего через год вышиб себе мозги его брат. Из охотничьего ружья. Выстрел в упор. Я ничего не понял. Бороться, ничего не понимая. Вот так он и послал всех к черту. Ярость. Будто стреляли в меня.
Наивные ласточки[14]. Блондинка. Рано утром под эстакадой метро. Возвращайтесь, мой маленький, когда будет чем платить, когда у вас, так сказать, будет полная тарелка. По правде говоря, она чувствовала себя не в своей тарелке. Возможно, ей здесь в этой тарелке вообще делать было нечего.
Метил в чёрную, убил белую. Скажите честно, вы правда верите, что я найду выход? Ваша наивность, ваш энтузиазм меня ужасают. Правда, я чувствую себя лучше. Но именно это меня и волнует, потому что всё равно уже слишком поздно. Я уже слишком стар. Я не смогу начать сначала. Надежда, которую вы пытаетесь мне внушить, только мешает. Вы понимаете меня? Или профессиональная этика требует делать вид, что вы мне не верите? Знаете, я наконец нашел способ. Я в восторге уже от одной мысли об этом. Но придется подождать, это можно будет сделать только весной... Вот увидите, отлично получится... Заснуть на пляже во время прилива, приняв каких-нибудь таблеток, ровно столько, чтобы не сопротивляться уносящим тебя волнам.
Тайная близость со всеми, кто отказывается принимать смерть извне. Самостоятельно проработать горе, как пианист отрабатывает гаммы. Отвратить смертью худшее? Смерть, которая стала бы для нас вполне уютной? И совсем другая смерть, о которой нечего сказать, та, которую не уловить, та, которая что угодно заставит утекать! Две политики самоубийства: парано-фамилиалистская политика Вертера и политика шизо-инцеста Клейста. С одной стороны, гуманная и означающая смерть, мама, ты понимаешь, я больше не мог, я тебя поняла, сынок, я вас поняла, мой генерал, все друг друга поняли, смерть-подмигивание, жалкая смерть; с другой — надменная смерть, созерцательное отклонение, это или что-то ещё, до бесконечности, распад по недосмотру.
Означающий образ для убедительности постановки смертельного акта утирает слёзы — закончилась комедия! Он цепляется за фигуральную[15] смерть, за смерть — бессмыслицу желания. Сначала это было, возможно, лишь игрой, помутнением разума — так, пощекотать нервы! Но его увлекает машинная цепочка, расщепляет, раздирает (déchire). Так смерть образа открывается самому детерриториализованному желанию. На каждый разрыв по мятежной смерти. Отвалите с вашими папой-мамой! Поскольку я сам в этом по уши измазался, то предлагаю себя холокосту. Принять решение о неразрешимом. Присоединиться к «самоубитым обществом». Отказаться плясать под их дудку, когда это становится политически невыносимо. Смерть для того, чтобы ухватиться[16] за последнюю возможную линию утекания. А также поднасрать социусу. Его надувательство с бытием-к-смерти, его социальная помощь в бытии-на-грани, его коктейли Эроса-Танатоса. Последний отблеск на образах оледенения ожидания, невыносимый разрыв (déchirure), и наконец, смерть — алмаз неименуемого желания.
Во французском тексте в «воле к бессилию» (volonte d’impuissance) мгновенно узнается отсылка к «воле к власти» (volonte de puissance). Однако «бессилие» здесь может отсылать и к теории дискурсов Лакана, в которой оно, наравне с невозможностью, играет важную роль: «Итак, структура каждого дискурса вынуждает бессилие, определённое заграждением наслаждения, дифференцироваться в нём в дизъюнкцию, всегда одну и ту же, между продуктом дискурса и его истиной» (Lacan J. Radiophonie // Autres écrits. Paris : Seuil, 2001. P. 445). Психоаналитический контекст делает возможным ещё одно прочтение: «воля бессилия» — по аналогии с влечениями смерти и влечениями жизни. На втором из выступлений в Венсене в год проведения 17 семинара Лакан также говорит о бессилии означающего: «Господствующее означающее будет, возможно, чуть менее тупым. Но будьте уверены, что если оно чуть менее тупое, оно будет чуть более бессильным» (Экспромт 3 июня 1970). Хотя он посвящает бессилию сравнительно мало времени, этот мотив вызывает у Гваттари сильный отклик. Оппозиция puissance–impuissance станет важной осью в гваттарианской семиотике и критике означающего. — Примеч. пер.
Во Франции ласточками называют полицейских на велосипедах; см. также комедийную пьесу Ролана Дюбийара «Naïves hirondelles» (1961). — Примеч. пер.
Понятие Ж.-Ф. Лиотара, см.: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / пер. с фр. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 384–385; Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Том I / Пер. с фр. С. Мухамеджанова. М.: РИПОЛ классик, 2025. С. 313–314. — Примеч. пер.
В издании 2012 года (Guattari F. La Révolution moléculaire. Paris : Les Praries Ordinaires, 2012. P. 15–22) вместо «éteindre» (гасить, заглушать) стоит «étreindre» (стягивать, крепко схватить). Здесь мы следуем версии издания 2012 года. — Примеч. пер.
Перевод с французского: Алексей Дорофеев
под редакцией Анастасии Дорофеевой
под редакцией Анастасии Дорофеевой
Осквернение могилы:
машинный сонник

